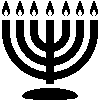ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИУДАИЗМА
1. НАЗВАНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ПЕРИОДЫ
В ряду семитических религий израильская религия занимает особое место. Она состоит в поклонении Яхве (Iahve). Направление исторического хода ее развития обусловлено было содержанием выражавшегося в ней богопознания. Такой же объем имеет и название мозаизм, когда оно употребляется для обозначения всей совокупности израильской религии. Обыкновенно же оно употребляется для времени между исходом из Египта и поселением в Ханаане; в таком случае следующие периоды отличаются от него названиями профетизма (пророческого периода) и иудаизма. При этом исходят из того ошибочного предположения, что Пятикнижие по преимуществу повествует о временах Моисея.
Но исследования, производимые уже более ста лет, с совершенной ясностью установили несостоятельность такого взгляда. То, что в настоящее время заключается в Пятикнижии, не принадлежит одному какому-нибудь периоду, а обнимает собою многие столетия. Времена до и после пленения искусственно приведены в нем к единству. Таким образом, и выделение особого мозаического периода теряет всякое основание; то, что есть исторически достоверного о временах Моисея, слишком мало отличается от непосредственно за ним следующего. Напротив, все, не только древнейшие, но и более новые части Пятикнижия: Декалог, Слово завета, так называемая Книга завета, Второзаконие, Закон святости, Священнический кодекс, а равно и все Пятикнижие в своей совокупности, а также в известном смысле Мишна, Гемара, Тозефта,- все они «Моисеевы»; но это слово надо понимать в таком же смысле, как слова: «христианский», «мусульманский» и т.п. Оно указывает на единство израильской религии; оно выражает собою то убеждение, что как бы ни были велики различия, существовавшие в разные времена, все же религия Израиля оставалась тою же самой. В ней есть прогресс, но он лишь постольку правилен, поскольку представляет собою развитие того, что дано было Моисеем.
В известном смысле в это понятие может быть включено и христианство, так что слова Евангелия (Ин. 5,46) можно перефразировать таким образом: «если бы вы были действительно последователями Моисея, то были бы и христианами». В течение этого развития сразу замечаются два главных отдела, которые ради удобства можно назвать периодами до и после пленения. Настоящую границу между ними образует время деятельности Неемии (2-я пол. V в. до Р.Х.). Однако зачатки второго периода простираются на несколько столетий раньше; началом их следует считать время введения закона, изложенного в книге Второзакония (621 г. до Р.Х.).
В первом из этих отделов субъектом религии является израильский народ, во втором – иудейская община. При этом понятие о Боге вообще получает постоянно все более определенный, трансцендентный характер. В первом периоде Яхве есть Бог Израиля, могущество которого все более и более признается по отношению как к различным народам, так и к природе и ходу истории вообще.
Во втором периоде он есть в полном смысле слова всемирный Бог, сделавший из Израиля свой народ, то есть свою святую общину. Время до плена в религиозном отношении распадается опять на два главных периода, внешнюю границу между которыми составляет падение династии Омри и вступление на царство дома Иегу в Северно-израильском царстве, событие, последствия к второго отразились и на царстве Иудейском.
С внутренней стороны с этим событием, если не в непосредственной, то в действительной связи находится появление великих пророков-писателей VIII века. Только по отношению к этим пророкам-писателям оба периода и могут быть названы, как это обыкновенно делается, допророческим и пророческим. Но и в первом периоде в Израиле не было недостатка в пророках.
В течение первого из этих главных периодов дело идет об установлении господства закона Яхве против других религий, бывших в Ханаане. В нем можно различить три меньших, хотя и не равных по продолжительности, периода:
1) от Моисея до единодержавия Давида – время борьбы за господство яхвеизма, закончившейся взятием крепости Иебус;
2) время Давида и Соломона, то есть бесспорного владычества Яхве;
3) время от разделения царств до революции Иегу, когда шла борьба за удержание достигнутого, с одной стороны – против политического абсолютизма, с другой – против религиозного синкретизма.
2. ДРЕВНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ В ЯХВЕ
Основной догмат израильской религии состоит в том, что Яхве есть Бог Израиля, а Израиль – народ Яхве. По единогласной израильской традиции, это отношение, изображаемое пророком Осией под видом брака и со времени пророка Иеремии и Второзакония носящее постоянное название завета, или союза, установилось еще во время пребывания в Египте: «Я Господь Бог твой от самой земли Египетской».
Не следует относить возникновение имени Яхве ко времени более раннему, нежели описываемое в Пятикнижии. Правда, что автор Пятикнижия употребляет его в рассказах с прародителях и говорит, что уже во втором поколении человеческого рода начали призывать это имя (Быт. 4, 26), но это не может иметь значения ввиду изложения элогиста, которому в общем следует и Священнический кодекс и по которому имя это было открыто Моисею, в отличие от совершенно безразлично употреблявшегося имени «Элогим отцов наших». Впрочем, в религиозном отношении это различие не представляет важности. У Яхвеиста единое божеское имя выражает собою единстве отеческой веры и веры Израиля, причем он не делает различия между разными периодами. У элогиста же, если это различие и существует, все же сохраняется сознание духовного единства с более ранними поколениями. Бог, который отныне носит имя Яхве, есть тот же Элогим отцов. Очень поучительна в этом отношении 2-я глава Осии.
Для оценки религиозного значения этих отношений следует обратить внимание на важность имени Божия для религиозного сознания Израиля, которая выясняется из 3-й гл. Исхода. Имя Яхве (lahve) производится здесь как imperfect, от haja v перефразируется словами ehjeh aser ehjeh. Против высказываемого некоторыми учеными толкования его в смысле Hiphil можно возразить, что оно не подходит к общему смыслу речи, что Hiphil не происходит от haja и что понятие жизнедавца, создателя, даже творца не стоит в израильском богопознании на первом плане.
Точно так же не подходят к еврейскому способу выражения эллинистическое толкование, которое в имени Яхве находит выражение понятия об aseitas Бога, ни палестинское, которое слово haja понимает в смысле «существовать», ни новейшее, центральным пунктом которого является понятие о постоянстве, неизменности и самопроизвольной деятельности божества. Правильное толкование дает Робертсон Смит, когда он в дополнении к де Лагарду ссылается на такие места, как Исх. 4.13; 16, 23; 33,19; Втор. 9, 25; 1 Цар. 23,13; 15,20; 4 Цар. 8,1; Иезек. 12, 25.
Во всех этих местах стоит глагол, подлежащий ближайшему определению. Но так как этого ближайшего определения не может быть дано, то вместо него оказывается относительное предложение, в котором глагол просто повторяется. При передаче в третьем лице это относительное предложение отпадает и на его месте по-еврейски постоянно является неясно выраженный, неопределенный объект. Так, «я буду тем, что я буду» передается: «он будет этим». Моисей спрашивает: как твое имя? На это следует ответ: ehjeh, aser ehjeh, которому точная параллель находится в Суд, 8, 17-18.
С одной стороны, это значит: Израилю не нужно знать имени Бога; Бог будет для него всем, чем будет, и если Израиль узнает это на опыте, то и довольно для него. С другой стороны, в этих словах говорится и то, что если Израиль хочет иметь имя для Бога, то пусть оно будет такое, которое без особых объяснений прямо выражало бы союз Израиля с Богом и попечение его об Израиле. Всякая религия лучше всего познается по имени своего божества; то же относится к религии Израиля.
В ней на первом плане стоит вопрос не о том, что есть Бог сам по себе, а о том, что он есть для своего народа. Характер ее не метафизико-догматический, а эмпирико-этический. Кроме того, это имя представляло то важное преимущество, что оно имело только формальный характер, образуя собою лишь раму, внутри которой возможно было развитие благочестия. Это обстоятельство было чрезвычайно важно для выработки израильского единобожия.
В то время как в других религиях идущее таким же шагом развитие религиозной жизни, вследствие определенности божеских имен, приводило все к большему разделению богов друг от друга, выданном случае было как раз наоборот. Совершенно неопределенное в материальном отношении имя не только не ставит этому развитию ни с какой стороны каких-либо ограничений, но формально выраженное в имени понятие единства Божия способствует также и объединению различных сторон религиозной жизни. Все они сосредоточиваются на одном объекте; развитие идет вглубь, а не вширь, и чем богаче становится жизнь, тем имя Божие получает более полное содержание. Только когда в имени: «Отче наш, иже еси на небесех» – все содержание его исчерпывается вполне, тогда оканчивается и религия Израиля как таковая. Что с этого времени выходит из употребления и имя Яхве, это одно из тех совпадений, которыми так необыкновенно богата история Израиля.
Оценкой религиозного значения имени Яхве еще не разрешается, однако, вопрос о его происхождении. Очень распространенное прежде мнение о том, что оно находится в генетической связи с египетскими и жреческими представлениями, в новейшее время справедливо было отвергнуто. Напротив, нужно признать, что в основе имени, этимологическое объяснение которого дается в Исх. 3, лежит более древняя форма lahu, которую, несмотря на возникавшие против этого возражения, можно усмотреть в собственных именах, в состав которых входит имя Бога 1а и lahu и следы которых можно найти кое-где и помимо Израиля, как, например, в имени гаматинца Ia’Ubidi и дамасского царя Ia’lu – lahu-ilu. Что такие имена могли произойти вследствие включения иудейского Бога в число богов других народов – предположение ничем не оправдываемое.
3. ОБЩЕЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ
Относительно религиозных условий, существовавших в Израиле ко времени установления веры в Яхве, мы знаем мало. Решающее значение имеет в этом случае тот или иной взгляд на историю патриархов. Что эти рассказы не имеют вполне исторического характера, это признается почти всеми.
Для оценки их значения мы должны исходить из двух положений: первое, что никакой народ не знает истории собственного происхождения; второе, что всякий народ, появляясь на сцене истории, приносит с собой богатый вклад преданий, воспоминаний, рассказов, которые, слагаясь в песни и притчи и связываясь с известными местами и именами, пересказываются каждым следующим поколением на свой лад.
При этом невозможно указать резкой границы между историческим и неисторическим. То, что таким образом получается, есть отражение самой жизни в том виде, как она проявляется в людях, дающих тон в духовной области: в народных ораторах и в особенности в народных пророках; созданное таким образом в разное время бывает различно, но всегда происходит из того, что живет в сердце народа. Мы при этом имеем в виду не мифы, по крайней мере в сколько-нибудь значительном объеме, и тем более не сознательные вымыслы, а поэтические предания, саги.
В тех рассказах, о которых идет речь, последние обратились в материал для религиозных поучений и таким образом дали богопознанию 9-го или 8-го столетий определенный отпечаток. С религиозной точки зрения достоинство их заключается не в том, что с большей или меньшей вероятностью может быть выделено из них в качестве «исторического ядра», а в том духе, выражением которого служат эти образы, который дает им плоть и кровь и делает из них характерные и типические изображения, в которых своеобразность Израиля выступает так правдиво и жизненно, как нигде еще.
Тем не менее не безразлично установить, что в этих рассказах сохранились, хотя бы и в самом неопределенном виде, местные, а также родовые и племенные воспоминания. Можно признать, что то, что является в виде истории личностей, есть большей частью история племен, что в схему ее включены географические и этнологические обстоятельства, что события более позднего времени перенесены на более раннее, что упоминаемые личности суть часто heroes eponymi, что нередко к какому-нибудь имени, которое в разных циклах рассказов само иногда меняется, присоединено бывает многое такое, что, действительно, носит неподходящий характер.
Но и соглашаясь со всем этим, нет необходимости совершенно отрицать историческую достоверность патриархов и возможность сохранения положительных воспоминаний в рассказах, например, об их пребывании в Месопотамии и об их кочевом передвижении через Палестину в Египет. Во всяком случае, рассказы о прародителях не объясняются одним стремлением отметить с самого начала принадлежность израильтянам старинных, отобранных у хананеян, святилищ. Гораздо важнее то, что такое представление дает почву для происхождения Израиля и в особенности его религии.
При вторжении в Ханаан израильтяне заявляли о себе, что они народ Яхве. Будучи во всех культурных вопросах учениками жителей Ханаана, они в одном пункте оставались верными своим природным обычаям, именно в почитании своего национального Бога, Яхве. Но из этого видно, что последнее не могло быть чем-нибудь новым, не имеющим корней в прошедшем. Кроме того, ни первоначальный анимизм, ни элементы тотемизма, не могут претендовать на историческую достоверность, так как в противодействии пророков именно эти стороны суеверия занимают столь случайное и столь мало центральное положение, что в них невозможно видеть сущность народных верований, побежденных более возвышенной религией.
Без сомнения, анимизм и в особенности культ предков имели у израильтян, как почти и у всех народов, большее значение, чем это ранее предполагалось. Но первенствующее положение анимизма не может считаться доказанным. Во всяком случае, не исключается возможность существования настоящего богопочитания и у домоисеевского Израиля.
Чтобы узнать, в чем оно состояло, мы при нашем исследовании будем исходить из двух фактов: во-первых, что израильтяне, как всеми признано, принадлежат к большому семейству семитических народов, и именно к северным семитам, которых они составляют южную часть, наиболее родственную с южными семитами,- и что и в религии своей они также имеют характерные черты, общие с этими народами; во-вторых, что и в позднейшем яхвеизме следы более раннего религиозного состояния не совершенно изгладились.
Можно ли рассуждать об особом природном предрасположении семитов, которое проявляется и в их религии,- это вопрос открытый. Мы ограничимся одной группой, границы которой определяются общими географическими и историческими условиями, и которой, согласно с ветхозаветной традицией, мы можем дать общее название ферахитов.
Нельзя отрицать у народов этой группы известной своеобразности и в религиозном отношении. Особенно замечательно у них слабое развитие индивидуализации в образах богов. У них нет ни ясно выраженной мифологии, ни настоящего политеизма. Но они еще очень далеки и от действительного монотеизма. Религия их находится в связи с определенными формами человеческого общества, прежде всего с семьей, а потом с племенем. Как жизнь отдельного человека переходит в жизнь племени, так и религия в своей сущности представляет религию племени. Божество представляет собою единство племени. Последнее сообщается с ним в священных местах, которые вместе с тем образуют и центральные пункты племенной жизни, в которых общественный союз усиливается и возобновляется посредством общения в священных жертвоприношениях.
Следствием этого, во всяком случае, является некоторая, хотя и незначительная, индивидуализация богов: они становятся племенными богами. Как видно из имен Эль, Баал, Молох, Адон, Шаддай, они представляются возвышенными, могущественными владыками. Эти имена суть скорее nomina apellativa, чем propria, и обозначают скорее целый род, чем отдельную личность. Когда они употребляются как собственные имена, то к ним всегда присоединяется ближайшее обозначение: Баал такого или иного места, царь такого-то народа или города. Каждое племя и даже каждая племенная группа стоит при этом особняком. В принципе бог данного племени имеет религиозное значение только для его членов.
Что такой бог племени был почитаем предками Израиля под именем Эль Шаддай, может быть выведено лишь из Священнического кодекса. В образовании этого имени, очевидно, играют роль теоретические, а именно этнологические соображения. Однако должно было существовать и древнее божеское имя Саддай, значение которого может быть, вероятно, объяснено из ассирийского языка как Вышний. Таким образом, в основании представлений Священнического кодекса может лежать правильное, хотя и приспособленное к теории, историческое воспоминание.
Сверх того, и племенные имена Асир и Гад были, по-видимому, первоначально именами богов (Быт. 30:11; ср. Ис. 65:11).
Но есть еще и другая сторона: если и верно, что владыка племени казался имеющим более важное значение, чем виновник каких-нибудь явлений природы, то все же боги в этом случае были не только покровителями своего племени, но и проявлявшимися в разных видах богами природы. У семитических богов часто стоит на первом плане деятельность их, проявляемая в явлениях природы. С этим тесно связано распределение богов на мужское и женское начала. С проявлением этой натуралистической стороны яхвеизм стоит в самом резком противоречии. Но направленные именно против нее законы доказывают, что и в более позднее время подобные стремления были известны в Израиле.
Этому представлению о боге как о владыке племени соответствует чувство глубочайшего благоговения, которым обязаны ему его служители. Религия у них предполагает очень большое расстояние между богом и человеком. Бог свят, хотя скорее в физическом, чем в этическом смысле. Человек есть его слуга; подчинение, страх, покорность суть основные черты благочестия. В исламе фраза «Аллах есть Аллах» прекращает все вопросы, всякое удивление и всякое усилие. Нечто подобное есть и в Ветхом Завете.
Одна из главнейших тем пророческой проповеди состоит в том, что человек должен быть унижен, ибо высок лишь один Яхве. Почва для такого настроения дана была религиозным направлением этих племен, которое поддерживалось окружающими их природными и жизненными условиями. С этим согласуется и тот факт, что область семитов есть настоящая родина пророчества во всех его разнообразных проявлениях, начиная от религиозного безумия до боговдохновенных речей. В нем выражается непреодолимое могущество Божие, вполне овладевающее человеком.
4. ОБЫЧАЙ И КУЛЬТ ДО МОИСЕЯ
Что касается до обычаев и культа до времен Моисея, то рассказы книги Бытия дают нам картину их, если не историческую в строгом смысле, то, во всяком случае, верную действительности.
Само собою разумеется, что обычаи имели религиозный характер. То, что было обычаем в том или ином племени, то признавалось волею божества; что находилось в противоречии с обычаем, то считалось оскорбительным и для бога. Поэтому величайшее порицание заключалось в словах «так не надлежит делать» или в эпитете «безумный» (ср. Быт. 34:7). Заодно с обычаями идет и культ.
Не делалось различия между областью общественной и областью религиозной жизни. И та сторона религии, которая касалась природы, также получала свое выражение в культе, тем более значительное, чем более кочевая жизнь переходила в культурную. В рассказе элогиста (Нав. 24:2,14,15) сказано, что отцы Израиля, когда они жили за Евфратом, «служили иным богам», но что их Бог вывел их и освободил от этого служения. Трудно решить, насколько здесь высказывается историческое воспоминание, предание или теория. Во всяком случае, здесь выражается сознание принципиального различия между отцами Израиля и большими восточными культурными государствами. При этом достойно внимания то обстоятельство, что, как видно из ст. 14, служение «богам иным» существовало в Израиле еще во время переселения в Ханаан.
В особенности это принципиальное различие должно было быть заметно в культе. Страстность религии, все более входящей в жизнь природы, находилась в самом резком противоречии с простотой пастушеского благочестия, на которую и впоследствии смотрели как на идеал.
Ни настоящих изображений божества, ни действительного жреческого сословия мы не находим в это время. Божественными символами считаются священные камни и деревья, массеба и ашера; последние суть деревянные столбы, заменяющие собою живые деревья.
Изображение тельца и терафимы составляют также, вероятно, наследие домоисеевского времени. Во всяком случае, прежнее мнение о египетском происхождении первого из них, в качестве подражания мемфисскому Апису или гелиопольскому Мневису, ошибочно. Вопрос этот определенно решается указанием Исх. 32:4.
Справедливо, что и Иеровоам не внес совершенно нового культа из Египта, а только официально утвердил культ, уже давно бывший распространенным. Что он был заимствован израильтянами от хананеян,- это возможно, но учитывая Исх. 31, мало вероятно. Сомнительно также, чтобы изображение тельца почиталось первоначально за образное представление божества; скорее в нем наглядно выражалось божеское могущество. Нерешенным остается вопрос, не выражалась ли также божеская премудрость символически в изображении змея (4 Цар. 18:4). Напротив, терафимы были, по-видимому, изображениями домашних богов в человеческом виде, довольно слабо связанные с настоящей религией (см. Быт. 31, 19, 30). Также и в Быт. 35, 2, 4, где о них говорится рядом с амулетами, трудно видеть в них что-нибудь другое. Те и другие в качестве элоге-ханнекар исключаются автором из области дозволенного яхвеизмом. Однако мы встречаем терафим еще в доме Давида: 1 Цар. 19, 13 (ср. Суд. 17, 5 и Ос. 3,4).
По вопросу о том, действительно, представляет собою это слово форму множественного числа и от чего она происходит, можно делать только предположения; не получил еще окончательного решения и вопрос о том, не представляют ли собою терафимы остатки старинного культа предков. Вместе с терафимами упоминается часто эфод; но нередко о нем говорится также и отдельно.
Странно, что это же слово, впрочем, только в соединении: эфод-бад – обозначает вместе с тем и священническую одежду, что, конечно, не случайно. Слово это имеет значение покрышки, и мнение, что под ним надо разуметь покрытое золотом или другим металлом изображение, весьма обоснованно.
Для определения значения его в древнее время указание на употребление эфода в Священническом кодексе, где он вместе с урим и туммим составляет одну из важнейших частей одеяния первосвященника, не представляет важности. Но в сопоставлении его с этими предметами выражается исторически правильный взгляд. В древнее время эфод известен также как гадательное средство, употреблявшееся для вопрошения божества. См. 1 Цар. 14, 18 (исправлено); 23, 9, 30, 7. Вместо него в 1 Цар. 14,41 в исправленном тексте называются урим и туммим, а в 1 Цар. 28,6 – только урим.
Относительно способа спрашивания, значения слов «урим» и «туммим» и возможной связи их с эфодом мы не имеем никаких сведений, равно как и об их внешнем виде и происхождении. Невероятно, чтобы эфод был настоящим изображением божества; напротив, очень правдоподобно, что он происходит из времен до Моисея, хотя о нем и не упоминается в книге Бытия. Кажется, он должен быть поставлен наряду с терафимами.
О настоящих священнослужителях, которые играли бы роль посредников, в эти древние времена нет и речи. Такое посредничество бывает нужно лишь тогда, когда в религию проникает таинственность. С сущностью племенной религии оно находится в противоречии. Когда божество представляет из себя бога племени, то и священнические функции исполняются главой племени или, в известных случаях, главой семьи.
Он соединяет в одном лице звание и начальника народа и священника: Быт. 14, 18. Он же приносит и жертвы: Быт. 12, 7, 13, 4 и др. В позднейшее время мы тоже много раз встречаемся со следами этого первобытного состояния; от отца семьи и главы племени эти права перешли к царю. Что пользование ими часто передавалось другим лицам – сыновьям и т. п. (Суд. 17, 5, 12; 1 Цар. 7, 1; 2 Цар. 8, 18), то это не составляет большой разницы. Впоследствии священник находился также в зависимости от царя, которым он назначался и по усмотрению которого мог быть сменен: 3 Цар. 2, 26. Однако же в древние времена такая передача священнических обязанностей бывала лишь в редких случаях.
Центральным действием культа было жертвоприношение. Не подлежит никакому сомнению, что вначале оно носило характер пира, совершаемого с участием племенного божества. При этом важна также идея если не заключения, то возобновления союза с божеством. В нем же находит свое выражение и сознание общественного единства. О ежегодном фамильном жертвоприношении говорится в 1 Цар. 20,6; но, вероятно, уже и в более раннее время приносились подобные фамильные жертвы.
Нет ясных указаний на то, чтобы жертвоприношения, совершаемые с различными целями, резко отличались друг от друга, а также чтобы действенность их зависела от каких-либо определенных обрядов. Мы знаем только одно обрядовое требование: выпускать кровь жертвенного животного.
В Священническом кодексе запрещение употреблять в пищу кровь причисляется к заповедям, данным Ною: Быт. 9, 4. Вероятно, в основе этого лежит исторически верная мысль, что подобное запрещение носит на себе характерные черты древнего культа. Относительно этого пункта очень важно указание 1 Цар. 14, 32-35. Наиболее выдающейся чертой богослужения была чрезвычайная простота. Нередко жертвенником был случайно попавшийся камень. Нигде не указывается на то, чтобы он почитался жилищем божества1. И в религии Яхве долгое время сохранялось нерасположение к жертвенникам из обтесанных камней.
Местами богослужения были горы или другие возвышенности. Они считались священными и признавались за местопребывание божества. Там, где их не было, они заменялись искусственными подражаниями, так называемыми бамот, которые впоследствии стали исключительными местами священнослужения. Естественно, что на высотах, по какой-либо причине наиболее часто посещаемых, мало-помалу возникали постоянные святилища. Они становились центральными пунктами жизни племени. При слиянии нескольких племен различные святилища могли или оставаться в почете, или же менее известные уступали свое место другим, получавшим предпочтение.
Во время кочевой жизни, естественно, приходилосьприносить жертвы в разных местах. Однако возможно, что уже и тогда известному месту, именно горе, приписывалась особая святость. Для многих племен такого рода горой был, по-видимому, Синай (Хорив), находившийся в стране кенитов (см. Исх. 3, 2, 12; для позднейших времен Израиля – 3 Цар. 19, 8). Относительно времени, когда совершались жертвоприношения, мы имеем лишь темные догадки. О еженедельном дне покоя нигде еще нет речи; да и существование его у пастушеских народов менее вероятно, чем у земледельческих. О празднике новолуния также не упоминается в книге Бытия. Но, хотя он и не находится ни в какой непосредственной связи с яхвеизмом, однако же, так как во времена Давида о нем говорится, как о деле самом обыкновенном (1 Цар. 20, 5), то можно предполагать, что он сохранился от старины.
Важность его для пастушеской жизни очевидна. Кажется, и стрижка овец сопровождалась определенным религиозным празднеством, из которого, между прочим, выработался установленный позднее и находящийся в столь тесной связи с исходом праздник пасхи. Как праздник маццот находится в ближайшем соотношении с жизнью земледельца, так настоящий праздник пасхи – с пастушеской жизнью. Во всяком случае, мы должны признать, что упоминаемый Исх. 3 праздник был восстановлением древнего обычая. Забытый во время египетского порабощения, он сделался необходимой исходной точкой для пробуждения к новой жизни упавших духом племен. Нет ничего невероятного, что, согласно элогистической традиции, с этого и началась борьба.
Как последний пункт обращает на себя внимание обрезание. Очень вероятно, что оно составляет наследие домоисеевских времен, хотя это и доказывается исключительно Священническим кодексом. Но находящееся в последнем определение, придающее обрезанию таинственное значение знака завета, имеет, несомненно, позднейшее происхождение и, вероятно, относится ко времени пленения, чем, однако, не ослабляется доказательство древности этого обряда у Израиля.
Трудно решить, указывает ли Исх. 4,24-26 на египетское происхождение этого обряда. Рассказ этот слишком краток, чтобы из него многое можно было вывести. То же самое относится и к книге Иисуса Навина 5, 1-91; снятие позора египетского допускает различные объяснения.
Напротив, в яхвеизме всюду предполагается существование обрезания. Известно, что оно не составляет исключительной особенности Израиля, а было туземным учреждением и у других родственных с ним народов, а также у египтян, хотя у последних оно распространялось, по крайней мере в позднейшее время, только на жрецов (ср. Иер. 9, 25-26) (текст испорчен).
Из народов, с которыми израильтяне находились в соприкосновении, только филистимляне называются необрезанными (2 Цар. 1, 20 и др.) и как таковые служили предметом презрения. Едва ли можно сомневаться, что первоначально обрезание имело смысл посвящения полового члена. Однако же нельзя ставить его на этом основании наряду с принесением в жертву волос и разного рода увечьями, совершавшимися в честь божества. Скорее, на него надо смотреть как на обряд вступления в возраст мужества или обряд освящения супружества. Важное значение для Израиля оно получило уже впоследствии.
5. ЯХВЕ КАК ИЗБАВИТЕЛЬ И БОГ ВОЙНЫ
Невозможно определить, насколько вера в Бога отцов составляла действительную силу Израиля во время пребывания его в Египте. Во всяком случае, у него и там должны были сохраняться воспоминания, которые, как бы они ни были затемнены, снова вызваны были к жизни по слову Моисея. Несмотря на внешнее сходство Израиля с родственными ему народами, эти воспоминания составляли его отличительную особенность и неоспоримое преимущество и делали его в значительной мере более способным к восприятию высшего богопознания.
Здесь мы встречаемся с личностью и деятельностью Моисея – человека, имевшего во всех отношениях основное значение для религии Израиля. Это значение, в немногих словах, состояло в том, что он, как состоявший в личном общении с Богом, вдохнул в народ, наполовину омертвевший и потерявший силы под египетским гнетом, дух божественной, а следовательно, и творческой жизни. Боевым лозунгом для этого было имя Яхве. Происходит ли оно, как выше сказано, в своей первоначальной форме от кенитов, это, если не с исторической, то с религиозной точки зрения, довольно безразлично. Главное, что это имя было исходным и опорным пунктом для великого религиозного движения, из которого израильский народ вышел возрожденным и полным победоносной силы и деятельности.
При этом главное дело заключалось в могуществе личной веры. Моисей внушил народу уверенность, что ему помогает живой Бог, и этой уверенностью он увлек за собою народ. Борьба сделалась, таким образом, борьбою Моисеева Бога с богами египетскими (Исх. 12, 12; Чис. 23, 4), и утверждение самостоятельности Израиля, к которому Моисей направлял народ иногда даже против его воли, было в полном смысле слова делом религии.
Нельзя понять значения для израильской религии избавления из Египта, если не смотреть на него с этой точки зрения. Дело не в том, что израильский народ избирает своим богом кенитского бога Иагу, а в том, что вновь возродившаяся вера в Бога отцов, о Котором Моисей засвидетельствовал, что Он есть Бог живой, имя Которого Яхве сделалась побудительною силой к действительному образованию народа.
Элементы, разбросанные как попало, были приведены этою верою к народному единству. Угасшее под влиянием общественного бедствия мужество вновь возродилось. Снова является сознание своей самостоятельности и стремление к деятельности. И когда, без помощи человеческой, природа, по-видимому, начинает служить интересам Израиля, когда необыкновенные события обращаются ему на пользу и наконец волны Красного моря образуют собою непроходимую преграду между ним и Египтом,- тогда для сознания Израиля не остается более никакого сомнения в том, что проповедуемый Моисеем под новым именем Бог отцов взял своих людей снова под свое покровительство и сделал из них народ, свой народ. Он сильный и превознесенный; коня и всадника вверг он в море (Исх. 15, 21).
Такое начало наложило на всю израильскую религию своеобразный отпечаток. Этому обстоятельству она обязана не только тем, что, будучи вызвана к жизни творческим актом Бога, она с самого начала тесно сплетена была с историей народа и даже сделалась главным фактором в его развитии, но и той ее определенной особенностью, что она прежде всего была религией избавления.
В этом случае особенно заслуживает внимания содержание богопознания. Для Израиля Яхве есть прежде всего Бог, выведший его из Египта. В этом коренятся все его представления о взаимных отношениях между ним и Яхве. Выражения, в которых он высказывает эту веру, в различные века различны. Целая пропасть была между народными и высшими пророческими взглядами, особенно далеко расходившимися относительно тех заключений, которые выводились из общего им убеждения.
Тем не менее, исходный пункт у них все же один: и те и другие постоянно возвращаются к исповеданию избавления. Последнее для Израиля не только составляет опору его веры и основание его надежд, но также и ручательство за будущее благополучие. В первом периоде при этом в особенности значима вера в могущество Яхве. В то время как верования и обычаи общерелигиозного характера лишь мало затрагивались вновь принятой верой в Яхве, в этом пункте она являлась живым и деятельным принципом, заставлявшим народ идти все дальше вперед по новым и новым путям.
На первый раз самой насущной потребностью было утверждение своей самостоятельности. Израиль должен был испытать на деле вновь полученную им свободу, организоваться в народ и приискать себе постоянное местожительство.
Нет ничего невероятного, что в этой связи с самого начала обращено было внимание на Ханаан и что только против воли израильтяне принуждены были оставаться в пустыне в течение времени большего, чем срок жизни целого поколения. По крайней мере, нет основания отрицать этот факт как неисторический без дальнейших исследований.
При всяких обстоятельствах ссылались на волю Яхве. Он вывел народ на свободу. В нем же было основание народного единства, и во имя его сделаны были первые попытки национальной организации. Мы не будем останавливаться на том, совершилось ли это на Синае или около Кадеса. Важно то, что эта организация во всех отношениях подчинена была имени Яхве. Этим было положено основание единственному в своем роде учреждению Торы, Книги Закона, которая лишь через несколько столетий получила, и то не окончательное, заключение в виде законченного Пятикнижия. Начатая Моисеем, она по справедливости носила его имя до самого конца.
Но было и нечто другое, имевшее более временное значение. В трудные времена Яхве являлся помощником; и именно в годину бедствий всякий раз чувствовалось снова, насколько необходима была его помощь. До времен Давида самое существование Израиля подвергалось постоянному риску и различные колена, то там, то здесь, то поодиночке, то соединяясь вместе, должны были постоянно сызнова отстаивать его с оружием в руках. Этим определялось и содержание религиозного чувства. Для Израиля этого периода Яхве был по преимуществу Богом войны, не в том политеистическом смысле, чтобы рядом с ним были другие боги мира или каких-нибудь других жизненных явлений, – этого именно не допускало религиозное сознание Израиля, отличавшееся особенно сильной концентрацией, – но он был Богом войны в том смысле, что присутствие Бога никогда не чувствовалось так близко и так реально, как во время бедствий войны и в пылу битв. Эти войны, в которых часто, как, например, в войнах с филистимлянами, речь шла о самом существовании израильского народа, необыкновенно сильно способствовали укреплению яхвеизма.
Чем больше в этих войнах Израиль принужден был полагаться только на самого себя, тем сильней он верил в своего Бога. Яхве являлся в них как живой Бог, который уже помог своему народу и намерен был постоянно ему помогать. Как Он призвал Моисея, так воздвигал Он и других сильных людей, которые, проникшись духом Его, становились во главе народа или одной из его частей. Религиозное и национальное одушевление совпадали. Войны эти назывались войнами Яхве (Исх. 17,16; Чис. 21,14; 1 Цар. 18,17; 25,28), сам Он – Богом воинств (боевых рядов) Израиля (1 Цар. 17, 45), которые, в свою очередь, называются воинствами Яхве (1 Цар. 17, 26, 36). В другом месте о Нем говорится как о вожде, к которому племена под начальством храбрых приходят на помощь (Суд. 5, 23), в честь которого раздается военный клич: «За Яхве и Гедеона!» (Суд. 7, 18) и на окончательное решение которого предоставляются военные планы (Суд. 1, 1; 1 Цар. 14, 37; 23, 9 и след.). В особенности это направление находит себе классическое выражение в песне Деворы, признаваемой почти всеми за один из древнейших дошедших до нас письменных отрывков. Из своего места жительства на юге Яхве переселяются, чтобы стать во главе союзных племен.
Как было в Египте, так и в Ханаане силы природы служат Ему и Он направляет их ко благу своего народа; с неба сражаются звезды, и когда, наконец, воды Киссона уносят трупы Его врагов и врагов Израиля, тогда раздается победная песнь: «Так да погибнут все враги Твои, Яхве; любящие же Его будут как солнце, восходящее во славе своей» (Суд. 5, 31).
Насколько важно для религии Израиля значение этой стороны богопознания, уясняется из того факта, что она, по наиболее вероятным толкованиям, является закрепленной в имени Яхве Саваоф (Sebaoth). В Библии и особенно в пророческих книгах имя это, очевидно, употребляется часто в смысле специального титула, служащего для выражения бесконечного величия Бога Израиля, то есть почти как собственное имя. Оно обозначает того, кто повелевает или имеет власть над «воинствами» – безразлично какими. Нет, однако, необходимости, чтобы таково было и первоначальное его значение. По этому поводу мнения очень расходятся.
В новейшее время получило вес то мнение, что название это создано пророком Амосом и в более древних сказаниях книги Царств составляет всюду позднейшую вставку. Полагают также, что оно обозначает Бога, властвующего над всеми мировыми силами , или такого Бога, Который властвует и над этими, признаваемыми за богов, светилами небесными.
Другие полагают, что речь идет здесь об управляющих силами природы небесных воинах , или ангелах, как носителях силы и величия Божия, или о тех и других, и об ангелах, и о звездах. Справедливо, однако, было замечено, что так как множественное число Sebaoth раньше встречается лишь когда говорится о человеческих, и именно израильских, войсках, то и в данном случае всего ближе будет понимать это слово в таком же смысле. Таким образом, это имя будет однозначащим со стоящим с ним рядом названием «Бог воинств Израильских» (1 Цар. 17, 45) и представляет удобное выражение для обозначения тесной связи, в которой, по представлению Израиля, Яхве находится с народом, ведущим Его войны и сражающимся за Него. При таком понимании совершенно естественно, что впоследствии это имя получило обширное содержание.
Как Яхве был для Израиля прежде всего Богом воинств, так святилищем Его был священный ковчег. Со времени Второзакония он признавался по преимуществу хранилищем двух каменных скрижалей закона и носил название кивота завета. В Священническом кодексе это представление получило дальнейшее развитие. Ковчег с двумя золотыми херувимами и крышкой, которую первосвященник в великий день отпущения окроплял очистительной кровью, стоит уже во Святая Святых и таким образом изъят от прикосновения и даже от взора людей. Он носит название «ковчег свидетельства» или «ковчег закона», и все, что приносится Яхве, кладется перед этим «свидетелем». Таким образом, мы уже оказываемся далеко от первоначального значения этого ковчега, состоявшего в том, что он был святилищем, которое брали с собой на войну и в походы, и в то же время переносным жилищем Яхве, заменявшим собою то, что сам живущий на Синае Бог не пошел с народом Своим в Ханаан (Исх. 33, 3, 5).
В этом качестве ковчег отправлялся на войну и там, как и везде, служил наглядным выражением присутствия Божия (Ср. 1 Цар. 4, 3 и сл.; 2 Цар. 11, 11; 15, 24 и сл.). Характерны для такого представления особенно так называемые сигнальные слова (Чис. 10, 35 и след.). Когда ковчег двигался с места, то говорилось: «Восстань, Яхве, и рассыплются враги Твои, и да бегут от тебя противящиеся тебе». А когда он останавливался, то говорилось: «Возвратись, Яхве, к тысячам и тьмам Израилевым!». Однако, по мнению Штаде, представление о ковчеге завета как о хранилище закона должно иметь свое историческое основание. Он думает найти его в том, что в ковчеге действительно находились камни, а именно, метеориты, на которые смотрели как на место жительства божества. Этим, по его мнению, в то же время доказывается: во-первых, что по верованию древнего Израиля в камнях жили божества, во-вторых, что и в этом случае происходит слияние синайского Бога с более древними представлениями.
Но из ветхозаветных сказаний ничего подобного не выясняется; ссылка же на то, что в этом отношении мы находим у других народов, где такие священные ковчеги содержали в себе изображения богов или фетиши, не принимает в расчет особенности яхвеизма, принципиально отрицающего изображения. Напротив, чрезвычайно вероятно, что на ковчег смотрели вообще как на реальный символ, то есть полагали, что он заключает в себе лично присутствующее божество, и поэтому, обладая им, думали, что обладают самим присутствующим в нем Богом.
Следствием этого было почитание его, имевшее некоторый характер фетишизма. Но не таков, конечно, был взгляд Моисея. И, во всяком случае, сказать, что ковчег был не принадлежностью или орудием божества, а самим божеством, – значит заходить слишком далеко.
С представлением о ковчеге как о военном и походном святилище находится в согласии то обстоятельство, что после перенесения его в храм Соломона о нем уже более ничего не упоминается. Вопрос о принадлежности Иеремии единственного места, где о нем сказано у пророков (Иер. 3,16), остается спорным. Во всяком случае ясно, что в будущем в нем уже не представляется нужды.
6. ЯХВЕ КАК ЦАРЬ И ВЛАСТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ
О первом периоде важнейшим делом для религии Израиля было то, что Яхве оказывался таким богом, который был в состоянии постоянно обеспечивать своему народу самостоятельное и сильное существование. Дело шло при этом о самоутверждении не только народа, но вместе с тем и самого Яхве. Завоеванием Иебуса поставленная задача была победоносно разрешена. Город Давида сделался политическим – а по перенесении на Сион Давидом священного ковчега и религиозным центром владычества Израиля. Яхве несомненно доказал свое превосходство не только над египетскими, но и над ханаанскими богами. Мильхамоты (священные войны) Яхве окончились полной победой. В сознании Израиля Яхве перенес свое местопребывание с Синая на Сион. С этого времени Ханаан становится уже его землей, святой землей, нахалаф Яхве.
После избавления из Египта едва ли какое-нибудь другое событие имело столь важное значение для религии Израиля. Только теперь это избавление было вполне закончено. Все это нашло свое возвышенное выражение в пасхальной песне, которая в настоящей своей форме псалма относится, может быть, к периоду после пленения. Освобождение из Египта вместе с водворением в святых жилищах Яхве воспевается в нем как один момент, в который величественно проявилось могущество и превосходство Яхве. В 1896 г. исследователь Г. Штейндорф обратил внимание на вновь найденную надпись фараона Менефта, в которой встречается имя Израиля. Из нее следует, что уже в конце XIII в. до Р.Х. израильтяне считались в числе народов Палестины и находились во враждебном соприкосновении с египтянами. Существовало, однако, три фактора, содействовавших тому, чтобы это событие получило свое столь важное значение. Это усиленное развитие пророчества, учреждение царской власти и постепенный переход от кочевого образа жизни к земледельческому.
Если мы выделим из рассуждения второй пункт, то окажется, что значение времени Самуила заключается в особенности в подъеме религиозного духа, не обусловленном, как прежде, политическими и социальными мотивами, – подъеме, без сомнения, происшедшем не без содействия Самуила. Наиболее выдающийся факт этого времени есть появление наби, – пророка, который в первый раз становится действительной силой в Израиле. Будучи, вероятно, ханаанского происхождения (Велльгаузен, Сменд), как показывает его имя, не имеющее объяснения в еврейском языке, он, как известно, сделался одним из самых существенных деятелей в выработке яхвеизма и если не единственным, то преимущественным проводником воздействия Духа Божия на Израиля.
В позднейшее время древнеизраильские слова ro’eh или hozeh (провидец) получили одинаковое значение с наби: 1 Цар. 9, и оба названия без существенного различия прилагались к одному и тому же лицу. Обоим давалось обозначение божьего человека. Однако же не всякий наби должен быть поставлен наряду с такими пророками, как Исаия, Амос, Иеремия и т. п. Это ясно доказывается именно той резкой оппозицией, в которой находились эти выдающиеся пророческие личности по отношению к общей массе пророков. Ср. Ам. 7, 14; Ис. 29, 10; Иер. 13, 9 и след.; Иез. 13 и др.
В противоположность тем, у кого выступала вперед их собственная личность, просветленная божественным вдохновением, остальные назывались сынами пророческими, то есть членами пророческой корпорации. Они образовали настоящее сословие, пополнявшееся через добровольное вступление в него новых членов, и отличались внешним видом, восприимчивостью к экстазу и проявлениями энтузиазма. Но, сверх того, они представляли собою естественную почву для восприятия и распространения всевозможных религиозных движений, влияние которых отражалось на них; они служили действовавшему в яхвеизме Духу Божию как способные орудия для осуществления того единичного в истории явления, которое представляют нам великие образы израильского пророчества.
И нельзя не признать, что когда во времена Самуила они выступили на служение вере, то уже этим самым они много способствовали ее победе. Но в то время как в пророчестве яхвеизм приобретал новую почву для свободного проявления духа, в других отношениях это свободное проявление уступало место постоянным, определенным учреждениям. До этой поры социально-политическое и в особенности военное управление народа или его отдельных частей находилось, помимо всякого правового порядка, в руках любого вождя или начальника, имевшего в себе дух Яхве. Не было ни внешнего единства, ни политической организации.
Когда заставляла нужда, тогда сражались с различным успехом, и тогда более или менее проявлялось на короткое время чувство товарищества; но как только проходила нужда, каждый такой союз распадался и каждая из его составных частей продолжала преследовать лишь собственные, местные интересы. Попытка Авимелеха основать под покровом культа Баал-Берита союз ханаанских и израильских городов, который бы состоял под его царскою властью, была неудачна. До образования самостоятельной, сильной народности было еще далеко.
Положение дел совершенно изменилось с установлением самостоятельного Израильского царства. Вызванное к жизни необходимостью борьбы с аммонитянами и филистимлянами, оно уже при Сауле, но гораздо больше при единодержавии Давида, когда после недолгого разделения снова, по смерти Избозефа, восстановилось единство, создало государственную организацию, уравнявшую и в этом отношении израильтян с прочими ханаанскими народами. В Ветхом Завете об Израильском царстве говорится неодобрительно с двух точек зрения. Притча Иофама указывает на ту его дурную сторону, что оно составляет путь к личному возвышению для авантюристов и людей недостойных, в то время как способные и достойные люди избегают сопряженной с ним тяжести.
С религиозными воззрениями этот образ мыслей не имеет ничего общего. Но рядом с ним существует и другой, который смотрит на царство как на прямое отпадение от Яхве. Взгляд этот, хотя и не имевший исторического основания, не лишен был известной опытной доказательности. Можно согласиться со Смендом, что Саул начал свою карьеру подобно «судии», так что между властью героев и древнейшей формой царской власти существовала самая тесная связь и одна была лишь подготовительной ступенью к другой, что, таким образом, царская власть произошла не потому, что народ возгордился и забыл Бога, а потому, что Израиль должен был обратиться к ней в силу необходимости.
Но как только царская власть получила свое место в государственном устройстве Израиля в качестве определенно установленной общественной власти, правильно передаваемой от отца к сыну, так на всякого рассуждающего человека не могла не произвести впечатления незначительность законной зависимости ее от свободно действующего Духа Божия, по своей воле избирающего своих исполнителей.
Временное вдохновение, отличавшее ранее вождей Израиля, отошло на задний план. Личное одушевление, делавшее случайных людей, не имевших никаких должностных прав, спасителями Израиля, уступило место власти должностного лица. И чем больше последняя употреблялась во вред народу, с личными или династическими целями, тем болезненнее должны были многие ощущать потерю этой абсолютной зависимости от призвания Яхве. Казалось, что правление перешло из рук Яхве в руки часто недостойного царя. Ср. 1 Цар. 8 и след. главы. Но такой противоположности не заключалось в первоначальном предположении.
Судя по древнейшим рассказам так называемой книги Самуила (1 Цар.), царская власть, при тогдашних обстоятельствах Израиля, была для него неоцененным благом как в религиозном, так и в других отношениях. Через нее не только политические, но и религиозные условия получили определенную законченность, а соединение племен, возвышение национального сознания и вновь созданные правовые порядки бесспорно послужили также на пользу и яхвеизму. Последний сделался государственной религией и получил в лице царя такого защитника, какого при прежних обстоятельствах у него не было. При этом надо заметить, что это царство, в противоположность царству Авимелеха, выросло непосредственно на почве яхвеизма. Самуилу принадлежит та заслуга, что он направил его на этот путь и дал ему возможность занять такое положение. Точно так же, как и прежний «судия», царь должен был исполнять свое общественное служение во имя Яхве.
Но теперь возможность свободного проявления духа беспрепятственно поддерживалась только в пророчестве; во внешних же политических и социальных отношениях правление Яхве, став царством, сбросило с себя свою случайность и резкость и приобрело более прочный, хотя и менее оригинальный характер. С этого времени Яхве должен был управлять уже не только во время войны и в форме лишь временных понуждений, а через посредство царя, постоянно и во всех областях народной жизни.
Царь был его помазанником и представителем владычества его над народом. Вследствие этого изменение в народной жизни, произведенное основанием царства, заметно повлияло даже на самое представление о Боге. Раньше впереди всего стоял Бог войны; с этого же времени на первый план выступает Бог-царь, закон которого действует в народе и в мирное время и у которого в Израиле есть постоянный представитель и исполнитель. Таким образом, становится ясным важное значение израильского царства для развития религии; но по отношению к каждому отдельному царю значение это зависит от того, насколько сознательно он исполнял свою задачу. Этим обусловлено принципиальное различие между Саулом и Давидом в их отношениях к религии.
Последний, несмотря на свою очевидную нравственную слабость, сделался идеалом яхвеистского царя и остался таковым навсегда; это объясняется в значительной мере необыкновенно успешным подъемом израильской национальности, которого достиг этот во многих отношениях богато одаренный любимец народа, но не менее того и полной его преданностью Богу, открывавшемуся ему через эфод и пророков, – преданностью, которую мы встречаем в его жизни всюду и при всяких обстоятельствах.
Нигде, может быть, характер израильского благочестия не выражается так ясно, как именно у Давида. Но для того, чтобы понять окончательную победу яхвеизма в Ханаане, мы должны еще обратить внимание на третий фактор: на совершавшийся в Израиле постепенный переход от кочевой жизни к земледельческой и вообще культурной. Когда израильтяне вторглись в Ханаан, то они нашли в нем оседлое население урегулированные общественные отношения, городскую и земледельческую жизнь и культуру. Сами же они только что перед тем вели жизнь степную и пастушескую. То, что всегда бывает в таких обстоятельствах, произошло и здесь.
Побежденные оружием сделались духовными победителями. Не везде положение дел в этом отношении было одинаково: там, где свирепствовала война, там Израиль брал верх, хотя бывали и исключения; там же, где устанавливались мирные отношения, происходило обратное. Во всяком случае, ханаанская жизнь имела свои определенные формы, которые израильтяне поспешили перенести к себе и усвоить.
Сверх того, путем союзов, брачных связей и общности интересов между племенами, первоначально родственными, но разошедшимися потом по разным путям, произошло смешение и наконец такое слияние, при котором перевес израильского или ханаанского элемента мог быть определен по большей части лишь на основании местных соотношений, которые в разных частях страны были различны. Неизбежным следствием этого был совершенный переворот в жизненных условиях Израиля. Возникли такие культурные отношения, которые еще недавно были ему совершенно чужды. В самых древних из дошедших до нас сборников израильских законов (так называемая книга завета или книга праведного, Исх. 34,10-26 и 21-23) этот переворот представляется по большей части как уже совершившийся факт. В них не говорится о пастушеском народе, а имеется в виду оседлое население; почти всюду без исключения в них предполагается присутствие городской и земледельческой жизни.
Для яхвеизма в этом перевороте скрывалась большая опасность. У ханаанских народов, как и вообще в древности, религия была самым тесным образом органически соединена со всей социальной жизнью, причем в частности у них религия племени была вместе с тем и религией природы, обожением жизни природы.
Поэтому, начиная жить в сфере ханаанских культурных отношений, легко было незаметно и постепенно приобрести заодно и заключенный в ней культ ваалов. Что этого, однако, вообще не произошло и что яхвеизм победоносно устоял перед этой опасностью, это составляет одно из самых блестящих доказательств присущей ему необыкновенной внутренней жизненной силы. Здесь обращают на себя внимание две характерные черты, по-видимому находящиеся друг с другом в противоречии. Первая – тесная связь между верой в Яхве и сильным самосознанием Израиля.
Имя Яхве было для него знаменем, единственной действительной связью между племенами, собранными под именем Израиля, но лишь слабо соединенными друг с другом, несходными и живущими в самых разнообразных условиях. Они были слуги Яхве, и отрешиться от этого названия было для них все равно что отрешиться от самих себя. Это и был именно тот пункт, от которого всякий раз начиналась реакция против распространения действующего под ханаанским влиянием разлагающего процесса. Но была и другая характерная особенность.
Мы видели, что яхвеизм по большей части образовал собою лишь внешнее очертание, которое должно было постепенно наполняться все более богатым содержанием. Твердо установленных форм культа при этом не существовало. Даже в сейчас упомянутых сборниках законов, хотя они изображают уже более упорядоченное состояние общества, культ все-таки стоит далеко на втором плане.
Пророк Амос говорит (5, 25), что Израиль не приносил Яхве правильных жертв в пустыне, а пророк Иеремия – что Яхве их и не требовал (7, 22). Эта неопределенность внешних форм была при данных обстоятельствах чрезвычайно большим преимуществом. Она дала возможность яхвеизму, смотря по надобности, сживаться со всякого рода условиями или, лучше сказать, воспринимать их в себя, не отказываясь, однако, при этом от своего собственного характера.
Точками соприкосновения являлись в настоящем случае ханаанские святилища, или бамоты (высоты). Последние, отчасти уже освященные воспоминаниями из патриархальных доисторических времен, были отмечены как принадлежащие Яхве, и происходивший там культ был перенесен на него. Этому перенесению способствовала та особенность семитических религий, что боги в них обозначались преимущественно лишь нарицательными именами. И Яхве был тоже «Ваал» (Ос. 2,18) и поэтому легко мог заместить собою местных «ваалов», то становясь в прямое и сознательное противоречие со своим предшественником, то живя мирно вместе с ним, то, наконец, так, что первоначальный собственник продолжал занимать первенствующее положение. Начиная со времени Второзакония, и в особенности у Иезекииля, эти бамоты признаются великим грехом Израиля и всякое их право на существование внутри яхвеизма отрицается. Такое их положение становится вполне понятным в виду могущественно высказавшегося стремления к очищению яхвеизма от главнейших элементов служения природе. Нельзя не признать, что бамоты много способствовали тому, чтобы яхвеизм в народном понимании понизился до уровня культа природы.
Этим путем в яхвеизме вошли также в употребление, особенно в царствование Ахаза и ему подобных, не только массебы и ашеры (см. § 47), но и соединение поклонения Богу с почитанием природного плодородия и, как следствия его, проституция в честь божества, локализирование Яхве и принесение в жертву детей. С высшей точки зрения это должно было казаться нестерпимым вредом. И, однако, при этом действительное значение бамотов для сохранения именно в то время яхвеизма в Ханаане не было достаточно оценено.
Это значение состояло в том, что в то время как ковчег завета в качестве походного святилища постепенно терял свою важность при поселении в различных, отдаленных одна от другой, частях страны, бамоты доставляли яхвеизму, хотя бы и в низшей его форме, новые опорные пункты в народной жизни, значение которых трудно переоценить. Во всяком случае, они не только охраняли яхвеизм от уничтожения, но и давали ему возможность проникнуть в низшие слои издавна уже оседлого ханаанского населения, которое воспринимало его со всем разнообразием его жизненных форм.
Как через установление царства в сознании Израиля Бог войны превратился в Бога-царя, так посредством бамотов из военачальника Он сделался собственником земли. С этих пор не только военный стан, но и земледельческая жизнь присоединилась к Его служению. Посредством бамотов Он принял ее в свое владение и сам стал в любом месте в непосредственное соприкосновение с народом, сделавшимся с этого времени уже оседлым.
8. ЯХВЕ КАК МОРАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЛЮБОВЬ, СВЯТОСТЬ
Со вступлением на престол Иегу начинается для религиозной истории Израиля второй из главных периодов до пленения. От первого периода он отличается тем, что в течение его в самом яхвеизме совершается внутренний процесс.
В то время как в первом периоде дело шло главным образом об утверждении яхвеизма в борьбе с враждебными ему силами, во втором эта задача хотя и не становится излишней, но, как необходимый результат уже достигнутой победы, отступает на второй план сравнительно с внутренней борьбой различных элементов, которые до того времени были соединены в яхвеизме. Эта борьба в первый раз проявляется у пророков VIII века до Р. X. На первый план у них ставится признание Яхве как моральной личности (так называемый этический монотеизм).
Это не было чем-нибудь совершенно новым. Пророки VIII века были реформаторами, а не основателями новой религии. Учение их возвращается назад, к древним, в сущности Моисеевским понятиям, по которым союз между Яхве и Израилем основывался на свободном действии первого, именно – освобождении Им Израиля из Египта.
Они дали новое развитие этой идее, которая под ханаанским влиянием изменилась до неузнаваемости и снизошла на степень представления о формальной лишь связи Бога с народом; но тем самым они стали в резкое противоречие с народными представлениями. У различных пророков это произошло различными способами. Для моралиста Амоса (время появления его книги – около 743 г.) Яхве есть прежде всего блюститель правового и нравственного порядка, желающий, чтобы ему служили путем справедливости и общественной нравственности (sedaka) (AM. 5, 24).
Для Осии, пророка любви, для которого характерно слово hesed, он есть тот, кто любит свой народ и хочет быть им любимым (образ брака, противопоставляемый чисто чувственной половой связи, которую Осия называет любодейством, и образ отношения отца к сыну). Оба пророка соединяли с такими воззрениями принципиальную оппозицию господствующему культу, выражавшемуся в шумных и пышных празднествах: Амос – потому, что соединенное с таким культом полное забвение нравственных требований было в его глазах лишь оскорблением величия Яхве; Осия – потому, что в этом культе проявлялось лишь внешнее, кажущееся благочестие, исходившее лишь из чувственных мотивов и преследовавшее лишь чувственные цели, которое не понимало действительного значения Яхве и низводило его на положение натуралистических богов Ханаана.
Этим объясняется борьба против изображения тельца, которую мы в первый раз встречаем у Осии. Корень ее лежит не в положительном запрещении изображений (так называемая 2-я заповедь десятословия), – скорее она вытекает из нового богопознания, основанного на собственном жизненном опыте пророков (Ос. 1, 3). По этому новому пониманию главное в религии – личность Яхве, признаваемая за духовное существо и любящая по собственному произволению. Ничего подобного не было в изображениях тельца и вообще в ваалах. Хотя народ и считал, что в них присутствует Яхве, и таким образом по внешности культ их применялся к яхвеизму, но в действительности он был совершенной его противоположностью.
Чему следовало стоять высоко над человеком, то было низведено ниже его (Ос. 13, 2); чему должно было служить духовно, то стало предметом чувственного служения. В то время как Яхве, почитаемый в образе тельца, требовал для себя лишь определенного культа, Тот, Кого проповедовал Осия, требовал себе полной покорности и преданности своего народа.
Все, что стояло между ним и Израилем, должно было быть устранено, хотя бы то была царская власть, все блага культуры, культ и все условия государственной жизни. В противоположность постепенно воспринимаемому от хананеян служению природе, получившему свое выражение в имени Ваала, которое поэтому Осия применяет и к Яхве, понимаемый таким образом яхвеизм был чисто духовной религией, субъектом которой хотя все еще был израильский народ, но которая в принципе переходила за всякие национальные перегородки. Вопрос о том, насколько можно предполагать, что правовые и нравственные требования, правда, очень общего характера, высказанные у Амоса и Осии, уже тогда установлены были в виде определенного кодекса законов, остается нерешенным. Нельзя отрицать, что эти требования, очевидно, совпадают со многими определениями десятословия и неправильно так называемой книги завета (Исх. 21-23).
На последнюю многие ученые и смотрят как на установившийся, законченный результат проповеди пророков. Но если мы и не находим у пророков VIII столетия настоящей ссылки на закон, то, во всяком случае, они выставляют свои требования не как что-либо новое, а, предъявляя их, рассчитывают скорее на безусловное согласие своего народа. Введенный Моисеем порядок объявления закона от имени Яхве необходимо имел последствием то, что в устроенном уже государстве, то есть со времени установления царской власти, развилось записывание законодательных определений (Ос. 8, 12). Совпадает ли, и насколько, эта Тора с древнейшими из сохранившихся в Пятикнижии сборниками законов,- остается нерешенным.
Однако необходимо признать, что основные нравственные правила, изложенные в десятословии, восходят к глубокой древности. Во всяком случае, последнее, как замечает Шульц (стр. 154), представляет собою столь же краткое, как и полное выражение нравственных понятий Моисеевой религии и в то же время обнимает собою все то, в чем Израиль издревле привык видеть волю Яхве. Напротив, предположение, в первый раз высказанное Гете, о том, что Исх. 34, 10-26 содержит в себе более древнее десятословие, имеющее скорее культовый, чем этический характер, ни с какой стороны не может быть признано вероятным. Также и утверждение, что невозможно, чтобы моральная таблица служила основанием и исходным пунктом для специфически национальной религии, требует еще подтверждения.
Возвышение моральной личности Яхве вело к тому, что, с одной стороны, богопознание направлялось на путь абсолютного монотеизма, а с другой стороны, что основное положение – Яхве есть Бог Израиля, Израиль есть народ Яхве – приобретало существенно более полное содержание. Правда везде одна и, как ее блюститель, Яхве царствует и вне Израиля. Он избрал Израиля своим народом для того, чтобы он по преимуществу был исполнителем его нравственных заповедей, но во всем прочем он ничем особенно не связан с ним (Ам. 9, 7). В народном представлении отношение Яхве к Израилю было естественно-необходимым, выражаясь со стороны первого в помощи и покровительстве, а со стороны второго – в поклонении и служении; у пророков же на первый план выступает другой элемент: моральная зависимость от воли Бога, выражающейся прежде всего в требованиях нравственного характера.
Таким образом союз Яхве с Израилем получал существенно этическое обоснование. Если Израиль не удовлетворял этому условию, то преимущества его обращались ему во вред и он в удвоенной мере ощущал на себе страшную строгость праведных требований Яхве (Ам. 3,2), ибо Яхве был прежде всего Богом правды, который отрекался даже и от своего народа, если этого требовало охранение справедливости. Что до этого скоро должно было дойти, в этом пророки не сомневались.
Будучи далеки от того, чтоб обольщаться внешним блеском царствования Иеровоама II, они бесстрашно раскрывали нравственную испорченность, которой страдал весь народ от самых высших до низших, и на этом основании предсказывали его падение. В этом высказалось, насколько далеко они стояли от народа. Что для последнего считалось немыслимым и говорить о чем было для него богохульством, – то есть чтобы Яхве мог отдать свой народ на погибель – то для пророков при данных условиях было необходимым следствием их представления о Боге. Этим воззрением обусловлены были все их суждения как о современном положении дел, так и об историческом ходе событий. Даже великие всемирные монархии, и прежде всего могущественная Ассирия, как раз в это время занимавшая самое важное положение в судьбе Израиля, должны были служить исполнителями божеского правосудия. Яхве для того выдвинул Ассирию, чтобы чрез нее дать почувствовать своему народу свой праведный гнев; и если она могла что сделать с Израилем, то лишь потому, что так решил Яхве.
Этим объясняется отношение пророков к быстро приближающемуся концу их народа. Они уже видели его приближение, когда для других он казался еще далеким. И хотя это ожидание болезненно чувствовалось ими в глубине сердца, особенно у Осии, тем не менее они могли проповедовать лишь то, что таков был приговор Яхве над Израилем.
Пророчествуя смерть своему народу, они тем самым являлись спасителями израильской религии. Своим представлением о Божестве они на все последующие времена подготовили понимание того, что Яхве, независимо от национальных интересов Израиля, имеет свои собственные предначертания; этим они охранили яхвеизм от опасности быть уничтоженным вместе с Израилем. Для полноты картины следует указать еще на одну черту. В новейшее время вошло в обычай отрицать принадлежность Амосу последних стихов его книги; но это несправедливо: эти стихи не прерывают конца непосредственно предшествующих им угрожающих речей, но доказывают лишь то, что и Амос был сыном Израиля.
Как для Осии, так и для него полное и окончательное уничтожение Израиля было чем-то немыслимым. У Осии любовь Яхве к своему народу должна освободить его ото всего, в чем он искал опоры помимо Яхве, в том числе и от его государственного устройства; у Амоса, когда правосудие Яхве окончит свое страшное дело, тогда из развалин старого Израиля возникнет новый.
То, что он не указывает на связующие звенья между тем и другим, а как будто ставит их непосредственно рядом друг с другом, столь же мало удивительно, как и то, что в своих надеждах на будущее он возвращается ко времени до разделения царств, то есть ко временам Давидовой династии: время это и для Северного царства было периодом расцвета, бывшего предметом тщетных стремлений впоследствии.
Суровость его проповеди о погибели Израиля нисколько не нарушается этой «мессианической надеждой», впервые здесь столь ясно высказанной. Напротив, она скорее составляет необходимый противовес, предохраняющий его от отчаяния. В то время как, по понятию пророков Северного царства, падение Самарии получило характер события, имевшего влияние и на религию, Иудейское царство, в котором яхвеизм под сенью династии Давида жил до сих пор очень спокойной жизнью, подготовлялось во всех отношениях к тому, чтоб унаследовать все, чего достигло северное царство.
Не испытывая тяжелой борьбы, яхвеизм в нем получил очень поверхностный характер, смешанный со многими языческими элементами скорее восточного, чем ханаанского происхождения. Возможно, что царствование Гофолии много способствовало пробуждению умов из этого состояния и направлению их к новой жизни как в политическом, так и в религиозном отношении. Однако лишь в середине VIII в., незадолго до начала сирийско-ефраимской войны, появился первый великий пророк Иудеи – Исаия.
С появлением его и его современника Михея, центр тяжести израильской религии переносится из северного царства в южное. Значение Исаии для израильской религии состоит прежде всего в том, что он составил себе более глубокое внутреннее понятие о Божестве, которое нашло себе выражение в характерном для Исаии названии Яхве Святым Израилевым. В этом имени заключаются два противопоставленные одно другому понятия, соединение которых составляет особенность проповеди Исаии. Понятие «святый» указывает на то, что Яхве есть Бог недостижимый, величественный, несравнимый, в полном смысле слова божественный, величие Которого проявляется в природе и в истории, а могущественная сила обнаруживается именно в святости.
Сравнительно с ним все боги других народов суть лишь elilim, то есть ничтожество (слово, по всей вероятности, созданное самим Исаиею). Но Он в то же время есть Святой Израиля. Будучи Богом всего мира. Он однако избрал Израиля своим народом и, царствуя в небе. Он вместе с тем имеет свое местопребывание на Сионе. Эта более глубокая идея божества, выразившаяся в усиленном указании на святость Яхве, наложила с двух сторон свою печать на израильскую религию. С одной стороны, последняя получила вследствие этого характер прославления святости Яхве, то есть превознесения Его превыше всего.
На все то, что прежде считалось в каком-нибудь отношении высоким, стали смотреть как на стоящее в противоречии с религией. Только то, что мало и низменно, считалось приятным для Яхве. На первый план выступило требование полного послушания, неограниченной преданности и священного благоговения. В этом Исаия является тем более последователем и соратником Амоса, что и для него праведность и общественная нравственность были главнейшими из добродетелей. А как дурно было в его время состояние Иудеи в этом отношении, ясно видно как из речей Исаии, так и из пророчеств Михея. Последний является также его сотрудником в борьбе. Но в двух случаях проповедь Исаии представляет собою значительный прогресс. Исаия есть пророк веры или упования (Ис. 7, 9; 30, 15).
Это особенно выказывается в его так называемой политической деятельности во время сирийско-ефраимитской войны, а еще более – при совсем другого рода трудных обстоятельствах, бывших в царствование Езекии. В общем смысле политический принцип Исаии может быть определен как невмешательство, вытекающее из религиозных оснований и руководимое религиозными мотивами.
На основании этого принципа, так как иудейский народ был народом Святого, то ему следовало отказаться от всяких политических стремлений, не искать помощи у сильных государств и, не пробуя бороться с ними, но и не боясь их, во всех обстоятельствах с непоколебимой верой полагаться на Яхве, ибо только Ему он обязан был своею силою и даже своим существованием и без Него не могли помочь никакие средства защиты.
В этом случае мы встречаемся с воззрением, развивающим еще далее взгляд Осии. Находясь в прямом противоречии с издревле господствовавшими и в особенности процветавшими во время Давида и Соломона стремлениями, в силу которых значение религии необходимо предполагало и политическое могущество, это воззрение противопоставляло Израиля в качестве духовного царства, имеющего свои собственные идеалы, светскому государству с его естественно-политическими стремлениями.
Если смотреть на это учение как на средство сохранить в будущем значение Израиля среди запутанных обстоятельств того времени, то практическая важность его не может быть переоценена. Оно составило положительное и необходимое дополнение к тому освобождению понятия о Яхве из узких границ одной народности, которое совершено было северо-израильскими пророками.
Кроме того, из представлений Исаии о Яхве вытекало еще и другое следствие: так как Ему, как Святому, принадлежала полная и исключительная вера и надежда Его народа, то и культ Его должен был получить свой особый характер; поэтому следовало восставать против всякого смешения его с естественными, природными предметами. Из этого возникла полемика, примыкающая к речам Осии, но идущая гораздо дальше его, против всего, что могло считаться поклонением творению рук человеческих; под этим разумелись не только настоящие изображения, как например введенные Ахавом языческие изображения солнца и т. п., но и составлявшие наследие старины эфоды, так как и они относились к чувственному культу, не соединимому с образом Яхве, понимаемым в более глубоком смысле. Что эта проповедь не осталась без результатов, доказывается краткими сведениями 4 Цар. 18, 4; в особенности же на всю реформу Второзакония следует смотреть как на следствие движения, начатого в этом направлении Исаией.
Другое следствие, которое имело для израильской религии усиленное указание Исаии на святость Яхве, состояло в особом превознесении Иерусалима, выразившемся особенно ясно, с одной стороны, в таких названиях его, как Ариель – город Божий,- или всесвятая гора, с другой стороны – в так называемом специальном догмате Исаии (в особенности Исаии второго периода) о том, что Сион не может быть уничтожен до конца.
Это возвеличение Иерусалима нашло себе совершенно неожиданное и очевидное подтверждение в уничтожении ассирийской армии на палестино-египетской границе и в спасении Иерусалима от величайшей опасности. Конечно, это событие с внешней стороны не имело большого значения, и господство Ассирии вследствие этого не прекратилось, но в религиозном отношении едва ли какое-либо событие после завоевания Иебуса Давидом имело более серьезные последствия. Значение его было еще более усилено пророческим предсказанием. С одной стороны, оно окружило Иерусалим таким ореолом святости, которого Божий город уже никогда не терял потом и которое выдвинуло его навсегда из ряда других мест культа и даже повело к совершенному уничтожению последних во время издания Второзакония. С другой стороны, это событие дало торжество той уверенности, что иудейский народ был избранным народом Святого Яхве, для Которого Сион стал любимым, постоянным местом пребывания (Ис. 28, 16).
Такое же основное понятие, как и в вышесказанном догмате, находим мы в примыкающем к воззрениям Илии учении Исаии о спасенном «остатке», se’ar jasub. Как соглашение двух противоречивых понятий, одного – о неизбежной гибели народа вследствие всеобщего нечестия, и другого – о km’ath’e Яхве, стоящем в самой тесной связи с его святостью и в силу которого Яхве не захочет покинуть свой народ, это учение имело для израильской религии чрезвычайную важность. С него начинается сделавшееся впоследствии вполне обычным различение истинного и ложного Израиля, религиозной общины и народа.
В нем же находят себе основание «мессианические надежды», которые у Амоса существуют самостоятельно. Как отобранное из большой массы зерно, спасенный остаток не погибнет и под ассирийским гнетом, и потом, когда ассирийское могущество разобьется об него. Он под управлением законных потомков Давида образует из себя новый народ, который, в качестве мирного и основанного на справедливости государства, будет во всех отношениях удовлетворять требованиям Яхве (Ис. 11, 9). При этом Исаия рисует себе образ будущего царя.
9. ВЫДЕЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА ИЗ ЯХВЕИЗМА. СУД
В политическом отношении Исаия был, несомненно, одним из влиятельнейших людей своего времени. Велльгаузен справедливо говорит, что история его деятельности была в то же время и историей Иудейского царства в этом периоде. Другой вопрос, конечно, имели ли его стремления столь же значительный успех с точки зрения общественной нравственности и культа (ср. кроме 4 Цар. 23, 4, еще особенно 22-й стих, впрочем, сомнительный).
Во всяком случае, самое большое влияние он упрочил за собою тем, что ему удалось собрать вокруг себя круг людей (Ис. 8, 16-18), в котором слово его пустило глубокие корни и который в известном смысле соответствовал спасенному «остатку» его проповеди и был носителем и охранителем того понятия о Божестве, которое сделалось частью его самосознания. В течение последнего столетия перед пленом деятельность вышедшей из этого круга «пророческой партии» составляла во всех отношениях главное содержание израильской истории.
Близкие отношения к ассиро-вавилонскому миру уже во время Ахаза имели своим последствием значительный прилив восточных элементов как вообще в культурную жизнь Иудейского царства, так и в особенности в его культ. Против этого Исаия и его сподвижники боролись всеми силами.
Несмотря на это, в царствование Манассии это восточное влияние излилось на страну целым потоком. И хотя естественным последствием его было обогащение израильского миросозерцания, даже, если можно так выразиться, и в теологическом отношении, а также большая утонченность жизни, отражавшаяся и на культе, но, с другой стороны, это было уже настоящее язычество.
Уже раньше, при Ахазе, совершавшееся местами служение Молоху получило всеобщее распространение. Входившее в состав его культа жертвоприношение детей внесено было даже в культ Яхве, и на него смотрели как на проявление высшего рода благочестия. Точно так же введено было ассиро-вавилонское поклонение солнцу, луне и совокупности всех светил, под названием воинства небесного. Культ их захватил даже официальное место в храме Яхве.
В то же время поклонение в особенности богине Малькаф и небу распространялось все в более широких кругах (Иер. 7, 18; 44, 17 и след.). Едва ли можно поверить, чтобы упоминаемое в 4 Цар. 21, 16 кровопролитие, совершенное Манассией, было вызвано исключительно противодействием, возникшим против этих языческих нововведений (Иер. 2,30) (Кюнен). Скорее мы должны предполагать в этом случае проявление полной деморализации, шедшей рука об руку с языческими нравами и с вышесказанной утонченностью жизни, которую Манассия не в силах был обуздать (Иер. 7, 9 и сл.).
Но и при этих условиях проповеданное Исаией и его последователями богопознание оставалось деятельным началом. Недоставало только твердого применения заключенных в этом учении главнейших положений к требованиям практической жизни. Оно было дано в так называемом законодательстве Второзакония. При каких обстоятельствах оно было изложено на письме, остается неизвестным, но, во всяком случае, оно появилось впервые в 621 году, в восемнадцатый год царствования Иосии, будучи случайно найдено в храме.
Здесь мы встречаемся с одним из важнейших событий в истории Израиля, с тем фактом, в силу которого Израиль больше, чем какой-нибудь другой народ, сделался «народом книги».
На эту, найденную первосвященником Хелкией, книгу закона – corpus deuteronomii – надо смотреть как на новое издание старинных законоположений, особенно Исх. 21-23, пересмотренное с точки зрения централизации культа. Подобно этим законоположениям, оно считалось дополнением десятословия и выражением Моисеевой религии на той высоте, на которую она была поставлена пророками VIII в.
В религиозном отношении господствующим принципом нового закона была любовь, а в общественном отношении – гуманность; основанием же того и другого являлся «завет», или союз, заключенный Яхве с Израилем. Этим учением окончательно установлялось то представление, что отношение Бога к народу основано на нравственных условиях. Кроме того, все дело введения Второзакония имело значение попытки придать яхвеизму тот характер, который соответствовал бы единству и обособленности самого Яхве.
Для этого, прежде всего, требовалось, с одной стороны, обеспечить ему самостоятельную область, в которой он не подвергался бы никакому языческому вмешательству, с другой – дать ему также характер единства, сосредоточив всю богослужебную деятельность в одном месте, очевидно, освященном Яхве, чем устранялась опасность раздробления представления о Яхве на многих местных богов, и монотеизм получал свое определенное выражение и в культе. Важное значение Второзакония именно в том и состоит, что оно указало способы, дававшие возможность проведения этих мыслей на практике.
Бамоты уже отслужили свою службу и могли быть упразднены, не опасаясь того, что яхвеизм потеряет через это свое господство в стране. Казалось даже, что таким образом приближались опять к прежнему состоянию, когда лишь один ковчег завета был военной святыней. Установлена была определенная граница между поведением язычника и израильтянина, т.е. яхвеиста.
Так, например, изменением характера праздников оказывалось энергическое противодействие тому смешению естественной и религиозной жизни, которое составляло характерную особенность служения природе. Подготовлялось совершенное отрешение не только от национально-политической, но и от общественной и гражданской жизни.
Трудно сказать, насколько действительно успешна была реформа, выполненная Иосией на основании этого плана. Что она не укоренилась прочно в народной жизни, это видно не только из проповеди Иеремии, но еще более из того факта, что при последующих царях языческие формы культа расцвели столь же роскошно, как и раньше. Только исключительное положение Иерусалима и в связи с ним совершенно изменившееся положение священнослужителей сохранились, по-видимому, и впоследствии.
В проповеди Иезекииля на реформу Иосии совершенно не обращается внимания. В народе на нее смотрели как на насильственную отмену дорогих привычек и обычаев.
Напротив, для будущего она имела великое значение. В ней в первый раз сделан был очерк плана, который, по крайней мере отчасти, был выполнен и на деле и по которому религии обеспечивалось самостоятельное положение, отграниченное от всех других сторон народной жизни. К этому плану можно было уже потом возвращаться во всякое время и при всяких обстоятельствах. Именно поэтому после падения Иерусалима законодательство Второзакония сделалось одним из самых действительных средств для сохранения яхвеизма.
Кроме всего вышесказанного, для дальнейшего развития израильской религии в этом периоде имели значение еще два фактора. Первым была роковая смерть Иосии в битве при Мегиддо в 608 году, которая некоторым образом может быть названа началом конца Иудейского царства; вторым была проповедь Иеремии.
Мы едва можем себе представить, как велико и глубоко было впечатление, произведенное первым событием, особенно в религиозном отношении, тем более что попытка Иосии противостоять идущему на вавилонян фараону, вероятно, также основывалась на национально-религиозных соображениях. Во время реформации стали снова всецело служить Яхве, отбросив на основании вновь найденной книги закона все, что находилось в противоречии с Его волею. Поэтому снова стали сознавать себя по преимуществу Его народом и думали, что могут быть безусловно уверенными в Его благодатной помощи.
И что же из этого вышло! Удар должен был оказаться ужасным. Последние десятилетия перед реформацией, которые считались временем отпадения греха, были сравнительно годами мира и благополучия, а теперь, когда возвратились к Яхве, произошло такое несчастье, какого еще никогда не бывало. Наименее важным последствием было то, что реформаторское движение было приостановлено в своем развитии, а язычество стало опять процветать.
Важнее этого было то, что даже у последователей чистого яхвеизма не мог не возникнуть вопрос: где же было или могущество или правосудие Яхве?
В особенности являлось сомнение именно относительно правосудия. Дело при этом шло вообще о связи между благочестием и земным счастьем, с одной стороны, с другой – между грехом и несчастьем, т.е. о том, что обыкновенно называется учением Моисея о возмездии.
Этот вопрос в ветхозаветной литературе занимает немало места; достаточно припомнить книгу Иова, псалмы 49, 73, 77 и др. Древность всех этих писаний трудно поддается определению; по всей вероятности, все они новее пленения.
Но надо признать, что уже с того времени, о котором вдет речь, этот вопрос, получавший все более индивидуальную постановку, волновал Израиля и требовал ответа. С различных сторон ответ на него давался различный. Разрешение его в высшем смысле приводило к личной жизни в Боге, причем общение с Богом полагало конец всем вопросам. На такую жизнь следовало смотреть как на высшее торжество веры, но уже не национальной, а имеющей личный характер.
В тесной связи с этим стоял также и вопрос о бессмертии.
Но не везде и не тотчас пришли к такому торжеству веры. В настоящем господствовали другие направления. Рядом с теми многими, которые не хотели отречься от Яхве, но путались в мыслях о Нем и в отчаянии спрашивали: «где же Яхве?» – были другие, которые смотрели на несчастье с его последствиями как на божеское наказание за прежние, именно совершенные при Манассии, беззакония и относились к нему с полунасмешливыми, полупокорными словами, скоро вошедшими в пословицу: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» (Иер. 31,29. Иез. 18, 2); наконец, были и такие, которые в твердом уповании на могущество и верность Яхве считали все несчастье божеским испытанием, после которого тем несомненнее, как было и во время Исаии, последует спасение и исцеление.
Последние в особенности находились в противоречии с Иеремией. Не совсем ясно, какое положение занимал Иеремия по отношению к предприятию Иосии. Хотя он уже за пять лет до реформы выступил в качестве пророка, но в рассказе о ней он вовсе не назван (4 Цар. 20 и след.). Вместо него на совете призывается пророчица Гульда. Однако из формы и содержания его проповеди следует, что законодательство Второзакония было ему известно. Вероятно, он и сам, по крайней мере в течение некоторого времени, принимал участие в его введении (Иер. 11) и согласно с ним всю свою жизнь вел борьбу не только против языческого культа, но и против всякого, находившегося вне Иерусалима.
Но результаты реформы не удовлетворяли его. Если и нельзя считать очень вероятным, что, говоря о лживой трости книжников, превращающей закон в ложь, он имел в виду законодательство Второзакония, то все же очевидно, что он ожидал от этого движения совсем иных результатов.
Между тем оказалось, что нравственные предписания закона вовсе не вошли в жизнь или получили крайне ничтожное применение, тогда как следствием его была формальная вера в храм как место жительства Яхве, не имевшая никакого нравственного основания и при которой оставлялось совершенно без внимания учение ранее бывших пророков о нравственно обусловленном союзе Бога с народом.
Для Иеремии это верование было самым вредным заблуждением. Он требовал внутреннего исправления, а эта потребность вовсе не сознавалась. Этим определялся характер всей проповеди Иеремии. Во многих случаях его можно сравнить с последними пророками Северного царства, но тем не менее он занимает в истории израильской религии свое особенное место. В этом смысле он представляет резкую противоположность со своими старшими современниками, Софонией и Наумом.
Последние, присоединяясь к ожиданиям спасения, высказанным Исаией, видели приближение дня суда Яхве: Софония – в нашествии скифов, а Наум – в осаде Ниневии. Ассирийское могущество быстро клонилось к упадку, и так как посредством реформы Иосии иудейский народ, по-видимому, обратился к Яхве, то и в самом деле можно было ожидать, что для него наступят скоро счастливые времена.
Для Иеремии все это ничего не значило. Уже с начала своей пророческой деятельности он объявил суд Иудее, исполнителями которого он прежде всего считал идущих с севера скифов. И так как, несмотря на видимый переворот, внутреннее положение вещей осталось совершенно без изменения, то реформа не внесла никакой существенной перемены и в характер проповеди Иеремии. Точно так же и катастрофа с Иосией не ввела его в заблуждение. В то время как для других она была невыносимым разочарованием, для него она служила лишь доказательством, подтверждающим его опасения, что Яхве очень строго относится к своему народу и не будет довольствоваться одной внешней формой.
Большую определенность его проповеди дало в особенности возвышение могущества Вавилона после взятия Ниневии Набопаласаром и победы, одержанной в 604 году над египтянами его сыном Навуходоносором при Кархемише. Враге севера, если не скифы, то вавилоняне, был налицо; суд начинался. Для Иеремии этим был заключен первый период его деятельности; все сказанное им до этого времени было повторено и резюмировано в книге. Но именно с этого момента его пророческое дело достигает своего настоящего великого значения.
У Исаии на первом месте его проповеди стоит несокрушимость Сиона; у Иеремии, напротив, – неизбежность суда. И священное место – храм – должен пасть, и падение его тем необходимее, что во время реформы он сделался предметом веры, лишенной всяких нравственных оснований.
Такое учение ставило Иеремию в противоречие со всем народом, во всех его слоях, в особенности же жестоко оскорбляло верования и упования самых ревностных чтителей Яхве.
Для них патриотизм и религия были однозначащи. Возбуждаемые священниками и пророками, передовым оратором которых был Анания, пророк с внешними приемами Исаии, они верили в священное значение Иерусалима, обусловленное присутствием в нем храма, – то значение, которое выдвинул вперед Исаия и которое выразилось вновь в реформе Иосии. Поэтому они, то с мужеством отчаяния, то с ничем не оправданным легкомыслием и, во всяком случае, с полным забвением нравственных условий, держались за мысль, что Яхве, хотя бы в последнюю минуту, выступит на защиту своего народа и спасет его.
Даже первое выселение в 597 году, когда царь Иехония и вместе с ним избранный цвет населения были отведены в Вавилон, – даже оно не изменило этого настроения, а скорее усилило его до крайних пределов. Не только оставшиеся, но и уведенные в плен разделяли его, поддерживаемые пророками, подобными Седекии, Ахаву и Семайе (Иер. 29).
Иерусалим еще стоял на месте; без сомнения, в скором времени (Анания говорит о двухлетнем сроке) уведенные должны были воротиться и похищенные сокровища быть возвращены в храм. Держаться за это казалось требованием веры, противоположный же взгляд казался проявлением недоверия к могуществу и величию Яхве.
Вопреки этим, нередко со страстью защищаемым, мнениям, у Иеремии слышится совершенно другой тон. Патриотизм для него ничто, религия – все. В абсолютном разделении этих двух понятий заключается его великое значение. Подобно Исаии, он проповедует безусловное подчинение воле Яхве. Но воля эта требует прежде всего суда, как над всеми народами вообще, так и над Израилем в особенности, ибо Яхве правосуден.
Этим убеждением объясняется и кажущееся антипатриотическим поведение Иеремии. Яхве поставил халдеев исполнителями суда; поэтому бесполезно стараться противостать им; всякое сопротивление только принесет с собой несравненно большее количество страданий; поэтому, все призывающие к сопротивлению, хотя бы то было и во имя Яхве, должны быть заклеймены как лжецы и соблазнители народа.
Напротив, единственное средстве избежать совершенной гибели состоит в том, чтобы добровольно покориться чуждому господству как наказанию, к которому Яхве присудил иудейский народ.
В этом состоит главное своеобразие проповеди Иеремии, постоянно выступающее при самых различных условиях. Чем для Исаии была безусловная уверенность даже среди величайших опасностей, тем для Иеремии была столь же безусловная покорности перед правосудием, даже если бы при этом пришлось отказаться от национальной самостоятельности.
Желание сохранить ее собственными усилиями, вопреки приговору суда Божия, ведет к смерти; спасти ее можно только на время отказавшись от нее. Но еще более, чем его проповедь, замечательна самая личность Иеремии.
Он был соединен со своим народом самой искренней любовью и глубоко сочувствовал в душе всем народным бедствиям, а его считали врагом народа и изменником; он в самых тяжелых обстоятельствах покорно преклонялся пред волей Яхве, а его называли неверующим и богохульником; он искал только блага своего народа и провидел для него лучшую будущность, а его упрекали за отчаяние и безнадежность, и за все это он должен был терпеть оскорбления и преследования. Вследствие этого он даже и с самим собою находился в постоянном противоречии. Его пророческое призвание было ему и противно, и радостно.
Взятая им на себя задача и составляла его страдание, и возбуждала его энергию. Он проповедует обращение – и почти не считает его возможным. Он хочет спасти жизнь своего народа – и пророчествует его смерть. Как Амос был пророком общественной нравственности, Осия – любви, Исаия – веры, так Иеремия является пророком страдания – страдания внешнего и внутреннего. То, что он стремился провести в жизнь своего народа, именно полное отделение естественной жизни от религии, при чем народ должен был искать своей опоры только в Яхве, даже и тогда, когда он являлся судией, все это вполне осуществилось в его собственной личности, представляющей более яркий тип, чем личность какого-либо другого пророка.
Его борьба есть борьба за Израиля; провозвестник непререкаемого решения Бога, он в то же время на словах и на деле есть представитель и защитник своего народа. Этим он образует переход от старого порядка к новому. Проповедь его, может быть, по содержанию менее оригинальна, чем проповедь последних пророков Северного царства; но его значение больше, именно потому, что он глубже проникает вперед, чем они, и провидит, что из развалин Иудейского государства возродится новый духовно-общественный союз.
С этим согласна и его мессианическая проповедь. Не будучи столь величественной, как у Исаии, она носит более задушевный характер. Правда, и Иеремия ожидает царя, потомка Давида, который через долгое время, через семьдесят лет, сокрушит чуждое иго, под которым теперь приходится сгибаться, и вполне осуществит правосудие Яхве.
Но идеал его есть не правовое государство, а община, носящая образ Яхве в сердце своем, направляемая Его духом и верно Ему преданная. Такая община должна возникнуть путем страдания.
Если Иеремия и не высказывает никакого заключения о том, каким именно образом должно совершиться обращение, то все-таки для него достоверно то, что оно выйдет из страдания. Уже поэтому для него уведенные в Вавилон составляют лучшую часть народа.
Иерусалим пал в 586 году. Попытка продолжить существование иудейского общественного устройства, при наместничестве Гедалии, с центральным управлением в Мицпе, тоже не удалась. Но религия при этом не пострадала.
Пророки во имя Яхве предсказали этот конец, но когда он наступил, то из этого было выведено не то, что Яхве был побежден чужими богами, а то, что Он сам, по своей воле, в силу своего правосудия, отрекся от своего народа, своего города и своего храма. Для богопознания это было значительным прогрессом, который дал яхвеизму возможность нового развития.
10. СВЯТОСТЬ ЯХВЕ И ЕГО ОБЩИНЫ. СПАСЕНИЕ
То, чего законодательство Второзакония предполагало достигнуть на основании пророческой проповеди, путем планомерной организации, то в гораздо большей степени достигнуто было насильственным образом, через плен.
Главными действующими элементами при этом было признание безусловной святости Яхве и в тесной связи с ним не менее безусловное отречение от язычества.
Что ушедшие в Египет после убийства Гедалии иудеи большей частью потерялись там в языческой среде – это столь же несомненно, как и то, что переселенные в Вавилон заимствовали там многое из языческого натуралистического культа.
Это достаточно доказывается борьбой Иезекииля против gillullm – столбов, посредством которых старались воспроизвести в чужой земле присутствие Яхве (Иез. 6, 4, 6).
При всем том большинство переселенных израильтян желало оставаться служителями Яхве, но оно вместе с тем стояло перед тем неопровержимым фактом, что сам Яхве отринул народ свой от лица своего и покинул свое жительство на Сионе, чем отменил и древний завет свой с народом своим; ибо Яхве мог быть достойно почитаем только в святой земле. То, что делалось вне ее, было уже само по себе нечистым.
В течение первого десятилетия (597-586 от Р.Х.) изгнанники были одушевлены твердой надеждой, которую напрасно оспаривали как Иезекииль в Вавилоне, так и Иеремия в Палестине, что в последний момент Яхве выступит защитником Иерусалима, низвергнет халдеев, а самих их возвратит в Иудею.
В этой надежде они тесно соединялись вместе и, продолжая жить духом в своем священном городе, с которым они поддерживали оживленные сношения, выработали себе некоторого рода новую организацию, в которой под управлением своих родовых вождей, или старшин, старались насколько возможно сохранить свой национальный и религиозный характер.
После разрушения Иерусалима эта надежда потеряла под собой почву, но привычка сознавать себя на чужбине особой корпорацией была настолько сильна, что удержалась, а кроме того, иудейская обособленность получила значительную поддержку вследствие притока большого числа новых переселенцев.
Эта обособленность выразилась, между прочим, внешним образом преимущественно в двух обычаях: почитании субботы и обрезании. Тот и другой издревле существовали в Израиле, но им не придавалось особенно важного религиозного значения; теперь же они сделались отличительными признаками принадлежности к Израилю, получив значение внутренней связи и внешнего различия. Естественным последствием этого был священный характер, который они приобрели в позднейшем иудействе.
Впрочем, вследствие полного прекращения официального культа, в богослужении произошли существенные изменения. Вместо служения во храме были установлены правильные священные собрания в субботу, на которых молитвы и проповеди заменили собою жертвоприношение. Так как это делалось повсюду и, следовательно, собрания эти отвечали насущной потребности, то они под названием синагоги продолжали существовать и после возобновления Иерусалимского храма, рядом со служением во храме, и сделались одним из важнейших средств как для поддержания, так и для распространения иудейских форм жизни. В Ветхом Завете о синагоге, во всяком случае, упоминается в псалме 74, 8.
Но великое значение плена заключается не столько в этом и других подобных частных явлениях, сколько в радикальном разрыве, произошедшим между прошлым и настоящим. яхвеизм был оторван от своей естественной почвы, и вследствие этого стало не только необходимо, но и возможно установить его на новых основаниях.
Как при всех более ранних фазисах развития, так и теперь решающее значение имела форма богопознания. До сих пор на первом плане стояло общение Бога с народом; теперь, вследствие плена, оно заменилось сознанием отдаления.
Святость Яхве, с такой силой проповеданная Исаией, стала известна во всей ее страшной строгости, и отношение Бога к народу проявлялось лишь в виде гнева.
Такое представление имело разностороние следствия, и прежде всего оно отразилось на самом понятии о Боге.
У Иезекииля мы в первый раз встречаем что между Богом и пророком в качестве посредника является ангел. Вместо того, чтобы подобно прежним пророкам называть себя по имени, Иезекииль называет себя «сыном человеческим», как будто для того, чтобы яснее указать на расстояние, существующее между ним и Богом.
Характерно при этом описание херувимского трона, или колесницы, на котором он видел Яхве, шествующего из святого города. Вид Яхве как пламень огненный; он несется на крыльях херувимов; ни один человек не может вынести его взгляда. Таким образом, с Иезекииля начинается тот процесс, который вытекал уже из последствий проповеди Исаии, но только во время плена вошел в народное сознание и который, действуя постепенно в смысле полного отделения неба от земли и Бога от человека, привел в заключение к позднейшему иудейскому деизму.
Из книг Ветхого Завета на этой последней точке зрения стоит книга Экклезиаст (Когелет), составляющая резкую противоположность с пророческими писаниями.
Конечно, от Иезекииля до него остается еще большое расстояние.
В этом же направлении, начинающемся с Иезекииля, идет и священнический кодекс. Тогда как в более древних частях Пятикнижия часто говорится о явлениях Божества, священнический кодекс тщательно избегает упоминать о них; точно так же в нем не встречается выражений, придающих Божеству человеческие формы или человеческие чувства. Кроме «Слова» единственная форма, в которой является Яхве, есть кабод (слава Господня), представляемая и вместе с тем скрываемая облаком.
Но насколько в века, следующие за пленом, сознание расстояния между Богом и Израилем делается сильнее, настолько же делается заметнее стремление заполнить это расстояние все возрастающим множеством различного рода существ, занимающих середину между Богом и человеком и служащих посредниками между царящим на недосягаемой высоте Богом и живущим на земле человеком. Уже Захария идет в этом отношении дальше Иезекииля. Наконец стали полагать, что и самый закон дан был через посредство ангелов.
Четыре источника дали материал для этого направления мысли: во-первых, лежавшее в основании уже древнейших рассказов книги Бытия и Исхода верование в образе (Malach) Яхве; только этот образ получил теперь субстанциональность, неправильно перенесенную многими учеными и на более древнее представление, и сделался из простой формы явления Яхве на земле самостоятельной личностью, стоящей рядом с ним – именно таков он у Захарии; во-вторых, представление о Бене-хаелоим (сыны Божии), т.е. божественных существах, окружающих престол Яхве, которые упоминаются также под именем «духов» и в то же время носят название «воинства небесного» (ср. 3 Цар. 20 и след.); в-третьих, позднейшее представление, обусловленное развитием монотеизма, по которому на языческих богов стали смотреть как на подчиненных Яхве и им поставленных покровителей отдельных народов (ср. Исх. 24, 21 и след., Пс. 81 и в наиболее развитой форме в книге пророка Даниила); наконец развившееся дальше, под влиянием греческих воззрений, частью просто поэтическое, частью более реально представляемое олицетворение отдельных видов силы, свойств и форм проявления Яхве, как-то: его духа, его мудрости, его величия, его Шехины; уже в Ветхом Завете след такого олицетворения находится в кн. Притч. 8.
Но хотя развившееся в этом направлении изменение понятия о Божестве и было принципиально самым важным, однако оно не было единственным следствием радикально преобразованного во время плена представления об отношении Бога к народу. Не менее существенное значение имело то обстоятельство, что вследствие этого стали смотреть на все прошлое Израиля с точки зрения его тяжелой вины. Поэтому и отвержение Израиля со стороны Яхве могло быть объяснено исключительно как проявление его гнева и как наказание.
И в этом отношении воззрения Иезекииля имели направляющее значение. Многое, что в свое время было естественным и даже необходимым выражением непосредственной народной жизни, теперь, когда о святости Яхве имелись совсем другие понятия и когда ею ставились совершенно другие требования, стало считаться грехом: так, например, святилища на высотах (бамот), храм, входящий в состав царского дворца, формы отправления священнических обязанностей, свободное сношение с божеством и т.п.
Вместе с этим исчезло и простое представление о прошедшем, заменившись теорией, как относительно идеального образа действий Яхве, так и относительно реального образа действия народа. Что касается до последнего, то Моисеев закон в той стадии его развития, которой он достиг в пятом веке, сделался мерилом для предыдущей истории, причем предполагалось, что в своем настоящем виде он дал начало этой истории, которая и впоследствии развивалась под его влиянием, хотя последнее и имело по преимуществу отрицательное значение.
Эта теория получила свое классическое выражение в Священническом кодексе. Последний для времени до Моисея принимает несколько периодов, именно: от Адама до Авраама, для которого характерно наименование Божества словом Элоим; затем от Авраама до Моисея, когда Бог называется Эль-Шаддай, и наконец, начиная от Моисея, когда появляется имя Яхве.
Священнический кодекс различает также завет Бога с Ноем, знак которого есть радуга и который распространяется и на не-израильтян, от завета с Авраамом, знак которого есть обрезание, и т. д. Но с Моисеем – следовательно, в первый момент образования настоящего израильского народа – закон является сразу, как откровение воли Божией.
То, что в течение исторического времени, и в особенности под влиянием плена, явилось как требование, обусловленное святостью Бога, было отнесено к самому началу истории, как бы оно уже тогда было предначертано Яхве.
Из этого произошло то, что, вследствие насильственного разрыва всех национальных связей, не могло быть и речи о живом проникновении в более раннюю историю. То, что оставалось позади, было обособленным и во многих отношениях уже непонятным временем, абстракцией, получившей вследствие этого характер картины, отражающей в себе действие то греха, то благодати.
То же самое можно сказать, хотя с небольшим изменением, и о летописях (паралипоменон), которые еще на полтора столетия новее. Как и в священническом кодексе, в них описывается не действительная, а идеальная история, но зато именно поэтому они представляют собою чрезвычайно поучительное выражение стремлений и надежд, раскаяния и благодарности, опасений и ожиданий – одним словом, всей религиозной жизни иудейской общины в начале греческого периода.
С падением Иерусалима окончилось существование израильского народа как такового. Задача Иезекииля, особенно во втором периоде его деятельности, состояла в том, чтобы из могилы народа вызвать к жизни общину Яхве.
Этим объясняется доходящий до атомизма индивидуализм, составляющий один из отличительных признаков проповеди Иезекииля и стоящий в резком противоречии с солидарностью, всегда предполагавшейся и постоянно выдвигавшейся на первый план прежними пророками. В Иезекииле мы видим не только пророка-священника, но и пророка-духовника. Ср. Иез. 18,23. Если мертв был народ, то живы были отдельные люди; и так как их обращение являлось необходимой подготовкой для воскресения целого, то оно и должно было сделаться целью пророческой проповеди. Но это дело не перешло за пределы подготовительного движения.
В конце концов, Иезекииль имел в виду через посредство отдельных лиц пробудить к новой жизни общину, хотя при этом связь между тем и другим не всегда была ясна. Обеспечить индивидуализму постоянное место в израильской религии было делом позднейшей поучительной литературы.
Но есть еще два пункта, по отношению к которым проповедь Иезекииля имела решительное влияние на дальнейшее развитие израильской религии и израильского богословия: эти пункты суть эсхатология и организация общины.
Иезекииль с гораздо большим правом, чем Иеремия, может быть назван отцом эсхатологии. Оставляя в стороне современную действительность и прокладывая путь позднейшей апокалиптике, он на основании своего представления о Божестве рисует яркими чертами картину будущего:
Яхве вдунет жизнь в разбросанные мертвые кости, снова возвратит из плена в Палестину не только иудеев, но и израильские колена Северного царства, и, основавши вновь свое местопребывание в совершенно обновленном храме, снова дарует им благоденствие и величие под скипетром царя и пастыря из дома Давидова. Единственным мотивом для этого является у Иезекииля святость Яхве.
Отринувши Израиля, он лишился уважения в глазах других народов, присоединявших и его самого к падению его народа. Позор, наведенный им на свой народ и в особенности на его страну, отражается на нем самом. Снять этот позор с себя – это и будет для него целью искупления. Поэтому и в псалмах часто говорится, что Яхве дарует спасение ради имени своего.
Но простого восстановления Израиля для этого недостаточно. Этим и объясняется своеобразное представление (Иез. 38 и след.) о нашествии в неопределенном будущем Гога из Магога на живущего снова мирной жизнью Израиля. Может быть, имя это заимствовано от Гигеса (Е. Мейер), но, конечно, Иезекииль разумел под ним не какую-нибудь определенную личность, а вообще представителя враждебного Яхве и Израилю мирского могущества. Пришедши с большим войском, он стремительно нападает на Иерусалим, но этим только дает Яхве случай уничтожить его одним ударом, сняв тем с себя предположение о бессилии, тяготевшее на нем со времени побед халдеев, и показав яснее солнца, что он есть единый Бог.
После Иезекииля это представление о последней катастрофе, в которой, после жестокой битвы, соединенные силы языческих царств будут уничтожены, а Израиль, напротив, будет окончательно возвеличен, занимает большое место в надеждах и ожиданиях, касающихся будущего времени. В нем уже намечается в существенных своих чертах мессианическое учение, понимаемое в обширном смысле.
В тесной связи с этой эсхатологией находится у Иезекииля стремление дать Израилю такое внешнее и внутреннее устройство, которое соответствовало бы требованиям святости Яхве; сама окончательная катастрофа не может произойти раньше, чем Израиль сделается святым народом. Очерк такого устройства находится в последних главах книги Иезекииля. Что он был закончен в таком виде еще во время плена, доказывается выражаемой в нем твердой надеждой на возвращение иудеев когда-нибудь в Палестину.
Этот очерк, с одной стороны, совершенно висит в воздухе, не соображаясь ни с историческими, ни с географическими условиями и считая их за tabula гаsа; с другой стороны, в своих предписаниях он входит в самые мелкие подробности практической жизни, строго держась при этом только того, что возможно для исполнения.
Поэтому, хотя он и не имел никакого официального значения, но в существенных чертах был положен в основание того устройства общины, которое было осуществлено во время Неемии, около 440 г. до Р.Х. В существе своем как так называемый священный закон, преимущественно в кн. Лев. 17-26, так и Священнический кодекс со своими различными наслоениями, суть не что иное, как свободное воспроизведение правил, данных Иезекиилем, отчасти с большим применением их к условиям времени, отчасти с еще большим проведением великого принципа все сильнее проявляющейся святости.
Мы присутствуем здесь при возникновении великого законодательного труда, начатого в Вавилоне и продолжавшегося в Палестине, который, идя далее по пути, указанному Второзаконием, но не встречая, подобно ему, препятствий в политических и социальных условиях, привел к образованию из Израиля религиозной общины, ставшей хранительницей драгоценнейших сокровищ человечества; в то же время, однако, это законодательство направило Израиля на тот путь, на котором он, теряясь в слишком больших заботах о внешней форме, должен был наконец прийти к смерти.
В каких размерах был при этом использован древний материал – определить трудно; Hо несомненно, что и все древнее изложено было в новом виде и приспособлено для новых целей. При этом на первом плане было поставлено отношение к Богу, выражавшееся в культе.
Политические вопросы были совершенно устранены; на место царской власти стало жреческое сословие, законно соединенное с домом Садока, намечавшееся уже в Священническом кодексе в лице первосвященника, происходящего от Аарона.
С этого времени сделалось безразлично, в каком политическом положении находиться: быть ли в подчинении у Селевкидов, или у Птоломеев, или у римлян – лишь бы иметь свободу богослужения.
Но не только политической стороне жизни, но даже и социально-этической ее стороне, на которую так настойчиво указывал Амос, полагая ее в требовании абсолютной справедливости, перестали придавать большую важность, хотя о ней постоянно напоминали пророческие писания.
Взамен того закон в его различных видах получил троякую цель:
1) посредством великого множества самых разнообразных, частью символических, предписаний сделать невозможным вторжение каких-либо чуждых влияний;
2) точным соблюдением обрядовой чистоты, а также запрещением свободного доступа к Яхве (стоит припомнить цепь священнослужителей, окружавшую храм Яхве, с первосвященником во главе и левитами в начале), противодействовать всякому нарушению уважения к Его священному имени, и
3) дать средство к устранению в общине всякого нарушения ее общности с Богом. Этим объясняется важное значение, которое приобретает в законе, а с тем вместе и во всей иудейской жизни после Неемии, жертвоприношение, и в особенности искупительное жертвоприношение в его разнообразных применениях.
Оно сделалось как бы необходимым условием для постоянного утверждения и возобновления вновь заключенного союза, который постоянно снова подвергался опасности вследствие грехов народа и в особенности его нечистоты. Таким образом оно являлось гарантией хороших отношений между Богом и народом. Хотя значение и действие жертвоприношений и не было установлено теоретически, но для сознания Израиля они сделались выражением как величия и святости Яхве, так и уверенности в прощении грехов.
Поэтому они более всего способствовали тому, чтобы иудейство получило характер религии очищения, имевший столь важное значение для христианства. Главным моментом в этом случае был великий день очищения. Иезекииль еще не упоминает о нем, но в Священническом кодексе он является заключительным действием и высшим пунктом жертвенного служения, обнимающего собою всю жизнь.
При этом очевидно, что служение это получило совершенно другой, гораздо более обрядный характер, чем оно имело раньше. Значение его зависело главным образом от того, где и через кого принесена была жертва, то есть совершена ли она была согласно с законом.
Но и помимо жертвенного служения, были другие, тоже очень важные обрядовые законы. Действие их было таково, что они опутывали жизнь целой сетью формальностей, тысячью нитей связывавшей ее с волей Бога. Что следствием этого, вместе с благодетельно действовавшим серьезным, строгим пониманием жизни, всегда перед лицом Бога, являлась также и опасность впасть в исключительно формальную казуистику, это вполне ясно доказала история.
Совсем другой тон, чем у Иезекииля, чувствуется в проповеди его современника, жившего, по всей вероятности, не в Вавилоне, как думали даже в новейшее время, а где-нибудь в Палестине – так называемом второ-Исаии, автора 40-55 глав книги пр. Исаии. Тогда как богопознание Иезекииля привело его к признанию особой важности закона, т. е. организации, у последнего из того же основания вытекает прежде всего проповедь спасения, даруемого помимо заслуг, для получения которого единственное, но в то же время и необходимое условие есть принятие его с верой. Именно в этом учении и заключается его важность для израильской религии.
Исходя, подобно Иезекиилю, из понятия о святости Божией, он представляет ее себе не с формальной ее стороны, то есть не со стороны требований, предъявляемых ею Израилю, но на манер первого Исаии, у которого он заимствует и название Яхве Святым Израилевым, со стороны внутренней ее сущности, в смысле нравственного величия. Нет другого пророка, который бы так далеко пошел в этом направлении и который поэтому, с одной стороны, так сильно подвинул бы израильскую религию на путь универсального монотеизма, а с другой, так ярко выразил бы специальные задачи Израиля.
То, что отчасти уже высказывалось у более ранних пророков (припомним насмешки над золотым тельцом у Осии и название elilim, которое Исаия дает языческим богам), но высказывалось более или менее отрывочно и, во всяком случае, не проводилось с полной последовательностью – то у этого пророка стало основанием всех его воззрений на мир и жизнь.
У второ-Исаии Яхве есть не только единственный. Которому подобает поклонение (десятословие), или единственный в своем роде (Исаия), или единственный (Второзаконие), но абсолютно единый. Будучи Богом Израиля, Он есть в то же время Бог природы и истории, творец неба и земли, властитель всего сущего.
В этом отношении второ-Исаия, подобно Иезекиилю, хотя и на другой манер, является предшественником Священнического кодекса. Только в последнем, соответственно историческому плану этой книги, отношение между двумя терминами изменяется. У второ-Исаии, Яхве.
Бог Израиля, есть творец и правитель мира; в Священническом кодексе, Бог, творец мира, приняв имя Яхве, избрал Израиля своим народом. Историческим основанием такого представления о Боге служит для второ-Исаии победоносный поход Кира, являющегося из неведомой дали и наносящего смертельный удар халдейскому царству.
Тогда как для прежних пророков Ассирия и Вавилон были орудиями казни в руках Яхве, разгневанного на свой народ, для второ-Исаии персидский царь представляется в совершенно другом свете. Он есть поставленный Яхве освободитель Израиля, пастырь и помазанник Яхве, который вновь восстановит дом его в Иерусалиме. Таким образом Кир становится, по крайней мере отчасти, на место мессианического царя.
Так как Яхве есть Бог всего мира, то помазанник Его, в качестве исполнителя Его воли, может быть и мирской властитель. Но при этом целью и центральным пунктом промысла Божия остается Израиль. Поэтому у второ-Исаии на первый план выступает вопрос о том, в чем состоит призвание Израиля.
Подобно первому Исаии, но еще распространяя его мысль с ее положительной стороны, он отрицает существование политической задачи у Израиля. Как народ Израиль есть ничто, незаметный червь. Но слава его в том, что он обладает знанием Яхве, его учения и его правды; и задача его как хранителя воли Яхве сообщать ее народам, жаждущим знать ее, и быть таким образом светом, просвещающим другие народы.
Мысль эта находит свое выражение в особенном, свойственном второ-Исаии, названии народа: «Эбед-Яхве» (слуга Яхве). В новейшее время многие ученые отрицали принадлежность второ-Исаии так называемых песней Эбед-Яхве (Ис. 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13; 53, 12) в отличие от других мест, где точно так же упоминается это выражение.
Нельзя отрицать, что в изображениях, о которых идет речь, существует некоторая неясность. Но она объясняется тем, что Израиль представляется в них то в таком виде, в каком он является в истории, то в идее своей, то есть каким он был для Бога, причем обе точки зрения не всегда оказываются строго разграниченными. В первом случае это есть действительный, отягченный грехами, отпавший от Яхве народ, стонущий под тяжестью бедствия, причиненного собственной его виной; во втором – это идеальный народ, призванный и излюбленный Богом, который всегда о нем помнит и постоянно проявляет к нему свое расположение.
Но именно в силу этой двойственности сказанная мысль и достигает наибольшей глубины. Рассматриваемый в смысле идеального Израиля, Эбед Яхве имеет призвание, касающееся не только чужих народов, которых он должен просветить светом правды и спасения, но и самого Израиля в его тогдашнем виде, которого надлежало собрать из его разрозненности и снова привести к Яхве. Идея должна была подчинить себе действительность.
В проповеди об искупительном страдании мысль эта нашла себе классическое выражение (Ис. 53). Тогда как изложенная в законе теория жертвы решала вопрос в смысле очищения внутри общины согрешившего ее члена, здесь идет речь о гораздо более важном вопросе – об очищении самого народа в его внутренней сущности.
Это очищение получается вследствие того, что Яхве признает страдание своего народа, поскольку оно добровольно принимается и переносится его слугой, за достаточное наказание, а вместе с тем и за искупление.
Здесь мы видим, как к народу, олицетворенному в образе Эбед Яхве, вполне применена мысль Иеремии о том, что покорность приговору суда, в частном случае смерти, есть единственный путь для того, чтоб отнять у этого приговора его умерщвляющее действие и превратить его в переход ко спасению, то есть к новой жизни. Тогда как у Иезекииля воскресение народа начинается извне, здесь оно стоит в самой тесной связи с его очищением.
Именно в этом отношении второ-Исаия является больше, чем какой-либо другой пророк, предшественником христианства. Он есть в двояком смысле пророк спасения: во-первых, потому, что он предвещает освобождение народа Киром и скорое восстановление его, соответствующее освобождению из Египта; во-вторых, потому, что это освобождение означает для него прощение, снятие вины, милостивую отмену наказания и на этом основании принятие вновь в благоволение Яхве.
Яхве, которого Иезекииль видел уходящим из Иерусалима, согласно проповеди второ-Исаии, близок к тому, чтобы вновь возвратиться к своему народу. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш» и т. д. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион… скажи городам Иудиным: вот Бог наш!» (Ис. 40, 1-9).
Как велико было значение этих мыслей для иудейского благочестия, видно из многочисленных отголосков их в Псалтири, на которую вообще следует смотреть как на ответ общины закону и пророкам.
В виде примеров можно указать на непоколебимую веру в то, что из каждого, самого глубокого, бедствия вытекает спасение как необходимое следствие божественной благодати; на тесную связь между прощением грехов и внешним спасением, а также на сознание, что еще нельзя быть участниками очищения, когда бедствие не прошло и когда в глазах мира слава еще не достигнута; на постоянно вновь оживающую надежду, что Яхве уже скоро примет опять бразды правления и выступит как судия над своим народом, а еще более в защиту его; на сознание, часто столь же энергичное, как и, по-видимому, ничем не мотивированное, что Израиль во всех своих изменчивых судьбах, в унижении, равно как и в величии остается свидетелем народов, т.е. проповедником Яхве.
Именно эти же самые или такие же мысли с различных сторон выступают на каждой странице Псалтири.
11. ИУДЕЙСКАЯ ОБЩИНА
В последней половине VI столетия в иудейском народе на короткое время появился новый подъем жизни. Под влиянием проповеди пророков Аггея и Захарии и под управлением Иисуса и Зоровавеля приступлено было к постройке нового храма, который и был окончен в шестом году царствования Дария Гистаспа (1 Езд. 6, 15).
По общепринятому взгляду, этому факту предшествовало возвращение, по распоряжению Кира, большого числа пленных, в числе которых были и Иисус с Зоровавелем, причем основание храма было заложено еще ими. В новейшее время не только закладка храма, но и это более раннее возвращение подвергались сомнению, потому что в современных известиях о нем вовсе не говорится и существование его может быть доказываемо исключительно на основании рассказов вообще малодостоверного летописца, которому мы обязаны составлением книги Ездры и Неемии в ее теперешнем виде.
Но этот вопрос, хотя и очень важный для истории, почти вовсе не имеет значения для истории религии, так как в любом случае несомненно, что как раньше, так и позже 539 года и до середины V столетия положение Иудеи было самое печальное и совершенно незаметно, чтобы возвратившиеся из плена имели на него какое-нибудь влияние.
Постройка храма также не произвела в этом отношении никакого существенного изменения; надежды, возлагавшиеся на нее на основании пророчеств Аггея и Захарии, не оправдались, и великая катастрофа, которая должна была привести в движение весь мир, а для Израиля привести с собой время Мессии, не воспоследовала.
Получилась лишь та выгода, что у Израиля снова был центральный пункт для богослужения и можно было приступить к восстановлению религиозной организации, в основание которой было положено по преимуществу Второзаконие. Но уже вскоре, по-видимому, стали относиться к этому делу с меньшим усердием.
Книга пророка Малахии, происхождение которой, вероятно, относится к первой половине V столетия, представляет сплошное обвинение в недостатке благоговения к Яхве, в недостаточно ревностном исполнении своих обязанностей к нему и в недостатке мужества, который проявлялся даже у благочестивых людей ввиду равнодушия Яхве к жизни и благополучию своего народа.
Против этого пророк проповедует, что Яхве явится прежде всего для того, чтобы судить самого Израиля, и ввиду этого призывает к радикальному исправлению, впрочем выражающемуся преимущественно в исполнении требований культа и обрядности. Это исправление, с одной стороны, даст возможность оправдания на суде, но, с другой стороны, самое явление Яхве становится возможным только при условии такого исправления, которое совершится под руководством Илии, посланника Яхве, подготовляющего для него путь.
Насколько оно было необходимо, видно, например, из 59 гл. Исаии, которая относится к этому же времени.
С появлением Неемии наступило другое время. Он был человеком не слова, подобно пророкам, а дела, и такой человек именно и был нужен. Он был царским виночерпием в Сузе, а потом, сделавшись персидским правителем Иудеи, посвятил свои необыкновенные способности государственного человека и свое глубокое понимание действительности на служение павшему иудейству.
С чрезвычайными усилиями и настойчивостью ему удалось возбудить в нем новую, деятельную жизнь. Несмотря на сильное, явное и тайное, противодействие, он достиг того, что стены Иерусалима были снова восстановлены и покинутый, лежавший в развалинах город населен был народом, преданным ему душой и телом.
Жертвуя личными интересами, он исправлял общественные неустройства и сумел снова оживить у возвратившихся иудеев, глубоко презираемых окружающим населением, сознание того, что они суть народ Яхве.
Одним словом, он призвал к жизни такой прочно связанный крепкий народ, или, лучше сказать, общину, которая не погибла при самых разнообразных переворотах, происходивших в последующие века.
В преследовании своей цели Неемия нашел себе деятельного помощника в ученом книжнике Ездре. Что касается до их взаимных отношений, особенно с хронологической точки зрения, то по этому поводу в новейшее время господствует крайняя неопределенность взглядов.
Согласно с общепринятым мнением, основанном на известиях книг Ездры и Неемии в их настоящем виде, Ездра уже в 458 году, следовательно, за тринадцать лет до Неемии, прибыл из Вавилона в Иудею со значительным числом возвратившихся из плена и тогда уже сделал попытку, впрочем неудачную, расторгнув насильственно браки иудеев с неиудейскими женщинами, произвести духовное и телесное обособление иудейской общины – отделить gola (изгнанники) от «am ha’ares (оставшиеся).
Затем в 445 году прибыл Неемия и уже тогда лишь, когда, посредством возведения стен, раньше внутреннего ограничения произведено было внешнее, тогда снова предпринята была реформа, задуманная Ездрой, и проведена преимущественно посредством торжественного введения книги закона, которую принес с собой Ездра из Вавилона.
Но установленный таким образом порядок был в значительной мере нарушен во время отсутствия Неемии, уезжавшего в 432 году в Персию, и ему стоило больших трудов по возвращении своем восстановить уважение к законам, повиновение которым было клятвенно обещано.
Для этого потребовалось удаление нескольких влиятельных священников, в том числе внука первосвященника Елиашива.
По отношению к истории религии важное различие состоит в том, что, согласно с этим взглядом, возрождение Израиля не только во время Аггея и Зоровавеля, но и во время Неемии исходило в гораздо большей мере, чем обыкновенно думают, из среды той части народа, которая осталась в Иудее. Однако же образование настоящей общины, так же как и введение господства закона, оба характерные признака времени после Неемии, произошли под влиянием gola, т. е. пришельцев из Вавилона.
Неемия был облечен властью правителя. Значение его, если оставить в стороне громадную разницу в условиях времени, в положении, характере, верованиях и т.д., во многих отношениях может быть сравниваемо со значением Давида.
Как последний был основателем Израильского государства, так Неемия был основателем иудейской общины. Равно соревнуется он с Давидом и в преданности религии Яхве; только она имела у него иудейскую окраску, тогда как у Давида – израильскую. Во всяком случае Неемия должен считаться одной из замечательнейших личностей в истории Израиля.
Однако для внутреннего, преимущественно теологического развития израильской религии большую важность имеет также и Ездра. В то время, как раньше soferin – книжники являлись в качестве придворных или государственных чиновников и в качестве писателей или переписчиков, Ездра есть первый, кому это название принадлежит в религиозно-исторической сфере. В качестве такого книжника, будучи продолжателем Иезекииля, он является прародителем множества людей, которые в последующие века под названием книжников становятся настоящими законодателями, писателями и богословами иудейства.
В кн. летописей (Парал.) мы видим, что они уже образуют узаконенное сословие; в иудейском предании: они признаются наследниками пророков, позднейшими носителями происходящей от Моисея строгой преемственности.
Как своим религиозным и моральным величием, так и своим интеллектуальным значением яхвеизм обязан пророкам. Их компиляторские законодательные труды имели чрезвычайно большую ценность; и еще во время Иисуса Христа они были настоящими духовными властителями народа.
То обстоятельство, что сфера их деятельности была совершенно независима от политических усложнений, только усиливало их влияние. Вообще значение их должно цениться очень высоко.
Деятельность Ездры и Неемии была заключительным актом движения, начавшегося обнародованием Второзакония; посредством нее это движение достигло своей цели. Образовался круг людей, ставший в сознательное противоречие с окружавшим его языческим миром и всем своим существом, и в особенности своим богослужением, выражавший идею единства, святости, всемогущества и благости Божией. Идеалам пророков дана была, таким образом, осязаемая форма, но в то же самое время у неге отнят был его духовный характер, и сам он понизился, изменившись до неузнаваемости и превратившись в неясную тень.
Форма грозила поглотить содержание, внешность – получить преобладание над существом, Иезекииль – над второ-Исаией.
Государство некогда превратилось в церковь; теперь церковь опять делалась государством. Такие слова, как sophar, terua, saba (труба, трубные звуки) и т. п., взятые из военной и военно-служебной сферы, были перенесены в сферу культа. Это характерно для отмеченного изменения.
В этом отношении чрезвычайно поучительно сравнить древние книги Царств с летописями, мало пригодными в смысле исторического источника, но необыкновенно важными в том смысле, что в них отразилось их время. В них левиты становятся на место царской стражи и решающее значение имеют не политические, а религиозно-культовые соображения.
Все расстояние между более ранним и позднейшим временем становится очевидным.
Для обозначения общественного строя, заключающего в себе такое церковное государство, Иосиф Флавий в первый раз употребил выражение «теократия».
Вошел в обычай применять его в свободном, более духовном смысле, к религии Израиля вообще, так как особенность ее состоит в признании Яхве единым владыкой царем всех сторон жизни. Все человеческие владыки, будут ли то судии, старейшины или цари, угнетатели или освободители, чужеземные или свои – все они находятся под его верховным владычеством и лишь постольку имеют права, поскольку он признаются его представителями, облеченными им правительственной властью.
Но не это есть историческое значение слова. В этом значении теократия – гиерократия, то есть власть находится в руках не царя, а священника. Таким образом слово это становится в одну линию с такими обозначениями, как монархия, олигархия, деспотия и т.п.
Соперницей иудейской общины, впрочем не важной, явилась в это время самаритянская община, центральным пунктом которой был храм на горе Гаризим, недалеко от Сихема.
Вероятно, он был построен Санвалатом, одним из главных противников Неемии, для своего зятя, который, как выше сказано, был изгнан Неемией из Иерусалима (Неем. 13, 28).
Хотя самаритяне сами считали себя законными сынами Израиля, но по отношению к религии они не имели большого значения. Они приняли от иудеев Пятикнижие, но, вероятно, не тотчас и не потому, чтобы видели в нем происходящую из древности книгу закона, имеющую объективный, нетенденциозный характер, а уже впоследствии, потому что при богослужении своем не могли обойтись без такой официальной основы, которая имела бы божественное освящение.
Стянувши к себе вначале все элементы, недовольные иудейскими законными порядками, они тем самым косвенно способствовали укреплению иудейской общины.
То обстоятельство, что в летописях говорится о раньше бывшем Северо-Израильском царстве как о языческой стране, объясняется враждебным отношением иудеев к самаритянам. Такое настроение, поддерживаемое разными политическими столкновениями, было господствующим еще во время Иисуса Христа.
В 120 г. до н. э. гаризимский храм был разрушен Иоанном Гирканом. Иудейская община, напротив, расширялась и с внешней и с внутренней стороны. Из летописей можно видеть, что учители закона путешествовали по разным частям страны и находили всюду хороший прием.
Известно, что впоследствии они действовали и вне Палестины. Расположенная к северу от самаритян Галилея также присоединилась к иудейской общине. Насколько различно было отношение последней к той и другой стране, видно между прочим из II кн. Пар. (30, 10 и след).
В то время как значение Иерусалимского храма все возвышалось и персонал храмовых служителей получал все более прочную организацию, во всех местностях страны устраивались синагоги, сделавшиеся центральными пунктами духовной жизни. Для религии того времени они сослужили такую же службу в смысле укрепления закона в народе, как бамоты для древнего яхвеизма.
Они сблизили с народной жизнью религию, становившуюся по своим принципам все более сверхчувственной. Поэтому сознание своего призвания Яхве, а вследствие того – чувство собственного достоинства, усиливалось в народе, несмотря на политические смуты и многочисленные местные раздоры.
Многие псалмы относятся именно к этому времени; они свидетельствуют об истинном благочестии.
Одно из самых важных для всего будущего времени произведений периода, следующего за Неемией, есть канон.
Основанием для него послужило то же Второзаконие. Еще во время плена, по-видимому, оно было соединено с другими более древними, частью историческими, частью законодательными сочинениями, тогда как другие книги или получили отпечаток того же характера, или были прямо переработаны в смысле Второзакония, как, например, книги Судей и Царств.
К распространенному таким образом Второзаконию присоединены были потом более новые сборники законов, и наконец все было заключено в историческую рамку, заимствованную из Священнического кодекса. Все это вместе взятое, так же как и входившие в состав его сборники, носило название torath Mose и в качестве закона Моисеева образовало собою первую иудейскую Библию.
Как видно из летописи, она, вероятно, уже ранее конца IV века была закончена в своем теперешнем виде. Только труд исправления и дополнения продолжался еще долгое время. Но с окончанием Пятикнижия законодательная работа вовсе не была закончена. За ним следовали Мишна и Гемара, а когда последние получили тоже окончательный вид, то Тозефта.
Другое собрание священных писаний составили пророческие писания Nebiim. Все, что сохранилось из древней, частью исторической, частью пророческой литературы, было соединено вместе с новейшими произведениями, обязанными своим происхождением современному положению дел, в одно целое, состоящее из приведенных в известный порядок различных частей.
Легко доказать, что при этом более древние отрывки подверглись значительной переработке, но трудно указать точные границы между старым и новым. Следует признать, что главным основанием для переработки было в особенности желание, во-первых, заставить историю служить для целей религиозного назидания и, во-вторых, доказать, что на настоящее положение надо смотреть как на наказание или как на выражение благости Божией, во всяком случае – как на дело Яхве.
Как в законе невольным следствием этого было отнесение известных предписаний и положений к более раннему времени, так здесь, по той же причине, новые пророчества присоединялись к более древним писаниям.
При этом исходили из того предположения, что так как мировая история развивалась согласно плану, предначертанному Богом, то план этот был известен пророкам заранее, хотя бы этого и не видно было в записанных их пророчествах.
Присоединены были также многие отрывки современных пророков, имена которых остались неизвестными.
Таковы Ис. 24-27, 34, 35; Иоиль, Зах. 9-14; Иона и др.
За немногими исключениями, все они отличаются от более древних писаний своим более апокалиптическим характером.
Те прежде всего были рассчитаны на современные им условия, из них вытекали и их имели в виду, тогда как в новых отрывках этого нет или есть только в гораздо меньшей степени. Для них взятые из старинных пророчеств ожидания будущего представляют определенные величины, более или менее неизменные, которые можно было с большей или меньшей свободой применять к ближайшему или отдаленному будущему и пользоваться ими, смотря по их содержанию, в качестве или обещаний, или угроз.
Но в них еще не входит элемент псевдепиграфии, столь характерный для позднейшей апокалиптики и появляющийся в Ветхом 3авете в первый раз в книге пр. Даниила. Достоинство их заключается главным образом в ярко выраженной, иногда даже и по своей форме демонстративной уверенности в близости спасения.
В этом смысле они могут быть поставлены наряду со многими псалмами и относятся к мессианской литературе, независимо от того, говорят ли они о личном Мессии (Зах. 9) или нет (Ис. 24 и след., Иоиль).
Между прочим, особенно характерно для определения умственного направления того времени включение в пророческий канон книги пр. Ионы. В противоположность постоянно вновь вспыхивающей ненависти к миру, враждебному общине и непрерывно ее угнетающему, – ненависти, прорывающейся в страстных мольбах о пришествии суда и об отмщении, как это мы видим во многих псалмах, здесь мы встречаем вообще чуждо звучащую для иудейского уха проповедь о долготерпении и милосердии Божием даже по отношению к языческому миру, так как и он сотворен тем же Богом.
Прямую противоположность этой маленькой пророческой книжке составляет книга Эстер, включенная, впрочем, окончательно в сборник Кетубим.
Сколько-нибудь более точное определение времени более новых пророческих книг невозможно. Вероятно, происхождение многих из них относится к греческому периоду; напротив, едва ли гл. 9 и след. кн. Зах. подлежит перенесению в маккавейский период (Велльгаузен). Скорее надо думать, что к началу второго столетия до н.э. сборник пророков был уже закончен. Как часть священного писания он является дополнением закона.
Третий сборник, носящий название Кетубим, не может быть поставлен наряду с двумя первыми.
Замечательно, что в то время как в народной жизни арамейский язык постепенно вытеснил еврейский, последний сохранился в качестве священного языка именно благодаря Библии. Без сомнения, это различие языка много способствовало тому, что в народе религия все более теряла свою жизненную силу и что на нее стали смотреть как на специальное дело книжников; впрочем, когда читалось Священное Писание, то его переводили при этом на народный язык (Таргумим).